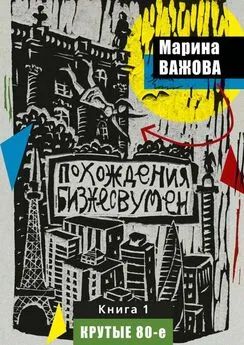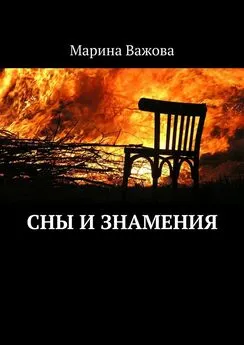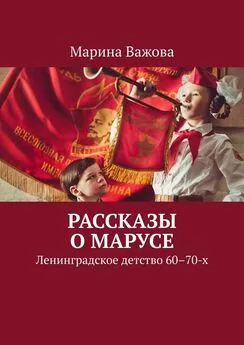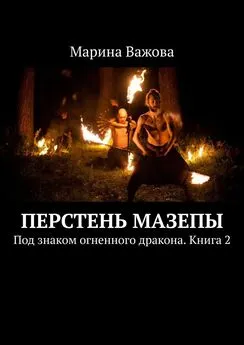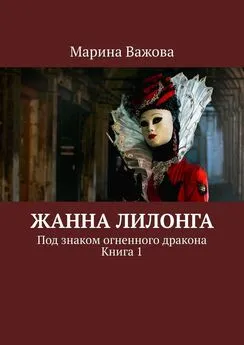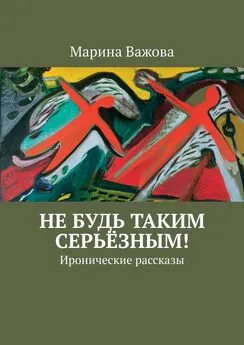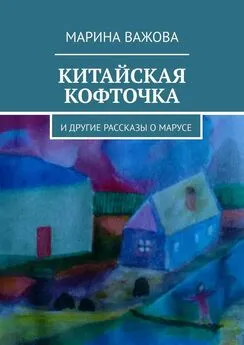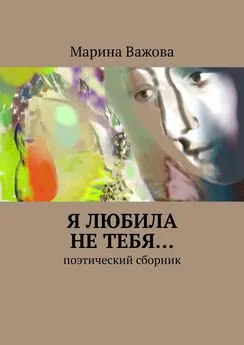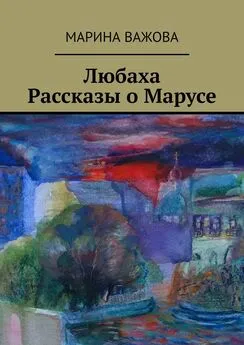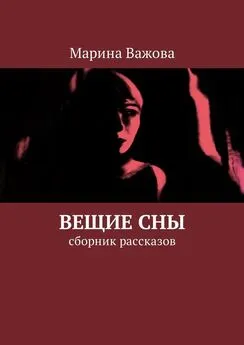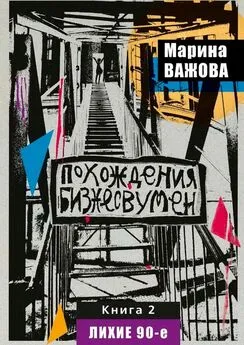Марина Важова - Похождения бизнесвумен. Книга 1. Крутые 80-е
- Название:Похождения бизнесвумен. Книга 1. Крутые 80-е
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449322975
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Важова - Похождения бизнесвумен. Книга 1. Крутые 80-е краткое содержание
Похождения бизнесвумен. Книга 1. Крутые 80-е - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Приехала домой, Валерке рассказала. Он задумался:
– Ну, ты понимаешь, Витьку тебе бросать никак нельзя, вот-вот главное должно произойти. Балтийский завод тоже обижать опасно, народ крутой, могут не понять. Давай завтра в «Рекорде» всё обсудим.
Рассказали Вите. Он, на удивление, ничуть не взволновался, даже заулыбался какой-то своей мысли:
– Я знал, Маша, что Валерка мне правильного человека привёл. На Балтийский не ходи, у них там скоро совсем другие дела завертятся, им не до олимпиад будет. А с тобой составим новый договор: десять процентов от прибыли по каждому заказу пойдёт тебе в премию. Годится? Ну, и отлично. Да, и вот что. С завтрашнего дня ты – член Совета директоров, изволь по четвергам в десять утра приходить на совещание.
Никогда в моей жизни не было такого разнообразия. Я могла с утра, не отрываясь от телефона, заниматься сплошной рутиной: с печатниками договариваться о сигнальных оттисках, выяснять, не согласится ли Ленинградский керамический завод помимо раковин и унитазов выпускать, к примеру, пепельницы или посуду с фирменной символикой. Искать, кто может сделать действительно грамотный перевод текстов буклета «Русские сезоны» для Рудольфа Фурманова, который доставал меня и днём и ночью. После обеда, приодевшись посолиднее, ехала договариваться о проведении выставки плаката на Охте в выставочном зале Союза художников, о видеосъёмке, о прессе. Вечером то по мастерским ходила, с художниками контакты наводила, то подхватывала кого-нибудь из Витиных гостей и шла с ними в ресторан, завершая культурную программу.
Мне удалось подружиться с плакатистами, это была самая активная секция Союза художников, что вполне объяснимо: именно плакат даёт возможность «шершавым языком» сказать миру всё, что ты о нём думаешь. И если собрания в секции графики с участием книжников и станковистов проходили чинно и по плану, то у плакатистов редко обходилось без гигантской склоки, а то и драки. Но их задор, готовность всё брать на себя, работать быстро и остро – эти качества нужны были Витькиному делу как воздух.
Про плакатистку Нелю Лищинскую хочу рассказать особо. И не только потому, что мы до сих пор с ней общаемся и дружим, но и потому, что её первую я выдернула из безмятежной жизни свободного художника, взвалив на девичьи плечи ответственную и, как оказалось, сумасшедшую работу. Видимо, хотела, чтобы кто-нибудь из собратьев по кисти поварился в том, в чем варилась я, а не поглядывал в мою сторону, как на предателя и нахлебника. Вот Неля мне и подвернулась. Она в это время как раз собиралась съездить в Пушкинские горы, пописать акварельки.
– Потом съездим вместе, – уговаривала я, – у меня там дом, поживешь, сколько хочешь, а пока выручай, нужно срочно делать буклет «Русские сезоны» для зарубежных гастролей народных артистов.
Буклет был сделан, и гастроли состоялись, только вот никогда уже она не собралась приехать ни в Пушкинские горы, ни в мой любимый Алтун, где из окон дома видны арки каретного двора, когда-то принадлежавшего графу Львову, с которого Пушкин писал образ Троекурова для своей повести «Дубровский».
Для того чтобы понять, во что я Нельку втянула и куда сама попала, нужно рассказать о Рудольфе Фурманове, который возглавляет театр «Русская антреприза имени Андрея Миронова» с тех самых пор, как мы познакомились. В этом весь Рудик (так его всегда Витя называл), ведь никакой «Русской антрепризы», а тем более имени Андрея Миронова, в 80-е ещё не было. Играли народные артисты, и на этом держалось всё. По сути, это была фишка Фурманова – он имел дело только с народными. Он сделал ставку на «народных», возил их по миру, благо, время позволяло. А уж как они там зарабатывали свой нелёгкий хлеб, об этом можно их спросить, а можно и не спрашивать – большинство зарубежных гастролей до сих пор делается по этому принципу.
Карьера Рудольфа – знамение времени. Сначала он просто объявлял номера в концертах, потом стал рассказывать байки из актерской жизни, затем выходил в каких-то сценах, подыгрывал звёздам. И под конец вырос до того, что стал художественным руководителем театра.
Первое впечатление от Фурманова – безумно неорганизованная личность. Но шаг за шагом, он незаметно, «тихой сапой», забирает тебя в свою орбиту, заставляя делать то, что ему нужно. Причём именно в данный момент, неважно, день это или ночь. А в другой момент его желания и цели меняются, и он требует ровно противоположного, причём немедленно, обвиняя всех в халатности и бездействии.
А его умение жонглировать словами! Ведь откуда взялись «Русские сезоны» и название театра «Русская антреприза имени Андрея Миронова»? От театральной антрепризы Дягилева, известной во всём мире как «Русские сезоны» и просуществовавшей с 1909 по 1929 годы.
Мы бы ничего этого не знали, если бы Витя каким-то боком не вписался в тусовку и не пообещал Фурманову сделать рекламу для гастролей в Германии. Я сначала здорово вдохновилась всей темой, а когда поняла, что попала под паровой молот, было уже поздно. Целыми днями с уст Рудика не сходили имена Лебедева, Леонова, Смоктуновского, Стржельчика, Ульянова, Басилашвили, Алисы Фрейндлих, он повторял их как молитву, они были ответом на все наши робкие возражения.
Он говорил тебе одно, тут же требовал другое, обещал кому-то третье. Ему было совершенно безразлично, кто ты и что ты, он мог явиться к нам домой чуть не ночью и кричать так, будто я по меньшей мере воровка и мошенница. Мы с Нелькой без конца переделывали буклет, который, конечно, должен был иметь сиренево-фиолетовую гамму, как афиши Дягилевских сезонов.
После очередного ночного звонка с руганью и угрозами, я сказала Вите: «Всё, больше никакого Фурманова, или я ухожу». Не знаю, о чём там Витя говорил с «великим и ужасным», но Фурманов вдруг превратился в саму деликатность, в саму предупредительность, познакомил с артистами, обласкал и усыпил. Нам с Нелей уже грезилось, что мы едем с «народными» на гастроли, что мы просто незаменимы. Мы даже побывали на квартире Алисы Фрейндлих с охапкой эскизов, Могу представить, как ей интересно было слушать наш робкий лепет. Алиса собиралась на репетицию в театр, который находился буквально через дорогу, и рассеянно посмотрела на наши творения. В комнату вошёл молодой и красивый мужчина, которому Рудик стал всё по новой объяснять и совать под нос распечатки.
Впоследствии Каштан обмолвился, что это Юра Соловей, а у Соловья есть друг, некто Ананов, который делает практически копии Фаберже. Его никто признавать не хочет, считая это не искусством, а эклектикой и подделкой, но у Ананова – большое будущее.
В общем, завершали работу с Фурмановым мы уже вполне мирно, буклетов напечатали на разных языках великое множество, но больше, слава богу, не встречались.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: