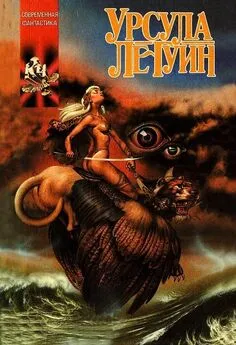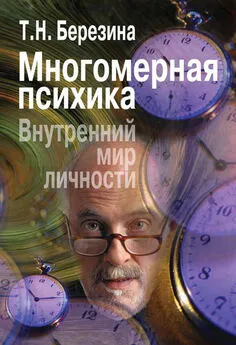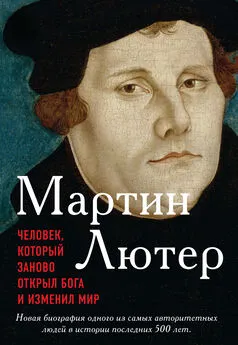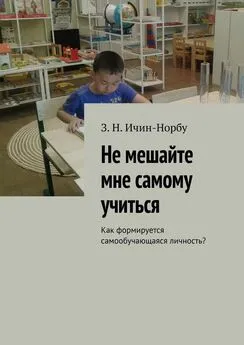Мартин Пачнер - От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю]
- Название:От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КоЛибри
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-389-16295-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мартин Пачнер - От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю] краткое содержание
«Чем глубже я погружался в историю литературы, тем сильнее меня охватывало волнение. Казалось странным, сидя за письменным столом, рассуждать о том, как литература сама по себе формировала историю человечества и историю планеты. Мне было необходимо посетить те места, где рождались великие тексты и изобретения. В этих путешествиях было невозможно сделать хотя бы шаг, не обнаружив той или иной формы записанного вымысла. Я попытался свести свои впечатления в повествование о литературе и о том, как она превратила нашу планету в литературный мир». (Мартин Пачнер)
От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так началась непрерывная борьба между теми, кто создает произведения, и теми, кто владеет машинами для их распространения. Эта борьба явилась неизбежным следствием технического прогресса: чем дороже делались машины, используемые для тиражирования литературы, тем труднее становилось авторам получать их во владение и использовать. Действительно, писцам ранних времен приходилось иметь дело с изготовителями папируса и бумаги [481] Chartier , Author’s Hand. P. 17.
, но теперь производство бумаги и книгопечатание в индустриальных масштабах полностью передали торговый инструментарий из рук авторов в руки предпринимателей и промышленников. В результате авторы или попадали в зависимость от типографов и издателей, или были вынуждены пускаться на собственный страх и риск в сомнительные затеи издания собственными силами. (До начала эпохи книгопечатания все авторы в определенном смысле обнародовали свои произведения своими силами, хотя и могли использовать писцов для копирования своей работы.) В прологе Сервантес изложил манифест современного авторства, где описал себя в типичной позе писателя, который размышляет, «расстелив перед собой лист бумаги, заложив перо за ухо, облокотившись на письменный стол и подперев щеку ладонью» [482] Здесь и далее «Дон Кихот» цитируется в переводе Н. М. Любимова.
, но не учел машин, над которыми не имел никакой власти.
Проблемы Сервантеса не ограничивались препонами со стороны литературных пиратов, печатников и издателей. В 1614 г. неизвестный автор нагло издал собственное продолжение «Дон Кихота». Самозванец, скрывавшийся за псевдонимом Алонсо Фернандес де Авельянеда из города Тордесильяса, сумел получить королевскую лицензию, найти печатника и издать свое сочинение как вторую часть романа. Ни Дон Кихот как персонаж, ни его похождения, по утверждению самозванца, не являлись исключительной собственностью Сервантеса. Публика требовала продолжения и должна была его получить, а от кого – не важно. Сервантес оказался вынужден вступить в сражение по поводу авторского права в современном ему обществе – в сражение за саму идею относительно того, могут ли авторы претендовать на владение созданными ими же историями.
Разговор о бедах Сервантеса заставляет обратиться к истории авторства и авторского права предшествовавших времен. В эпоху появления фундаментальных текстов, священных писаний, харизматических наставников и сборников историй авторству и оригинальности почти не придавали значения; авторы лишь постепенно начали сочинять новые истории в противовес признанным или рассчитывая вытеснить их. Так, например, Вергилий написал «Энеиду», римский вариант эпопей Гомера. Сервантес, в свою очередь, заставил Дон Кихота похваляться, что, живи тот в античные времена, он спас бы от разрушения и Карфаген, и Трою, бросая таким образом вызов и Гомеру, и Вергилию [483] Armas, F. A. de. Cervantes and the Italian Renaissance // The Cambridge Companion to Cervantes, ed. by Anthony J. Cascardi. Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 2002. P. 32–57.
.
Сочинять новые истории, чтобы вступить в конкуренцию с предшественниками, было делом рискованным: новым авторам нужно было заработать собственный авторитет. Сервантес сделал вид, будто он просто нашел рукопись «Дон Кихота» и приписал ее авторство арабу, представителю культуры, с которой боролся всю свою жизнь. Мог ли он очароваться арабскими сказителями, пребывая в плену у алжирских пиратов? [484] Stone R. S. Moorish Quixote: Reframing the Novel // in Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America. Vol. 33. № 1 (2013). P. 81–110.
Этого мы никогда не узнаем. Зато нам доподлинно известно, что Сервантес включил рассказ о своем пребывании в плену в роман – как один из многочисленных вставных рассказов (не исключено, что именно поэтому книга получила популярность среди пиратов дельты Миссисипи). Подробности рассказа, затрагивающего и возможные пути бегства раба из Алжира, и описание нравов турок, христиан и арабов, живущих в этом городе и говорящих на смеси нескольких языков, выдают глубокое знание Сервантесом этой темы. Несомненно, опыт вынужденного пребывания в Алжире очень много значил для писателя и, по его ощущениям, составлял важную часть жизни в Испании, а значит, должен был найти место в романе [485] Прекрасный обзор взаимосвязей между Испанией Сервантеса и арабским миром см.: Fuchs , Poetics of Piracy.
. (Наличие множества вставных рассказов превращало «Дон Кихота» в подобие собрания повествований, вроде «Тысячи и одной ночи».)
Благодаря взрывному развитию книгопечатания новые факторы – оригинальность творчества и право собственности на новые сюжеты – обрели значение и даже были закреплены в законе. К сожалению, большинство новаций, защищающих современных авторов, появились слишком поздно для Сервантеса, почти не имевшего юридической поддержки в борьбе против анонимного подражателя [486] Johns A. Piracy: The Intellectual Property Wars from Gutenberg to Gates. Chicago: University of Chicago Press, 2009. P. 23.
. Действительно, само понятие литературного пиратства в то время лишь смутно осознавалось.
Для самозащиты Сервантес воспользовался единственным оружием, имевшимся в его распоряжении, оружием, которое он прежде обращал против рыцарских романов: своим писательским талантом. Выбиваясь из сил, он за год закончил собственное продолжение, которое было намного лучше, чем никчемная поделка конкурента, и быстро вытеснило поддельную версию. Он весьма язвительно заставил Дон Кихота избежать всего, что самозванец приписывал герою в своем сочинении, таким образом доказывая неправомочность поддельной версии каждым поворотом сюжета. По воле Сервантеса Дон Кихот даже нанес поражение одному из знакомых самозванца, показав тем самым сочинителю-конкуренту, кто на самом деле виноват в сложившейся ситуации.
Сервантес знал: истинным злоумышленником был не автор-подражатель, а новый мир книгопечатания, сделавший и его произведение, и подделку под него столь широко доступными. Он сделал из этого умозаключения единственный логический вывод: нужно заставить героя лицом к лицу столкнуться с книгопечатной культурой. Во втором томе Дон Кихот узнает, что о нем был написан роман, и решает посетить типографию в Барселоне [487] Lathrop T. The Significance of Don Quijote’s Discovery of a New Edition of Avellaneda // Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America. Vol. 29. № 2 (Fall 2009). P. 131–137.
. Этот опыт раскрывает глаза и герою, и читателям романа о нем:
«Он вошел внутрь со всею своею свитою и увидел, что в одном месте здесь тискали, в другом правили, кто набирал, кто перебирал, – одним словом, пред ним открылась картина внутреннего устройства большой книгопечатни. Подойдя к одной из наборных касс, он спросил, для чего она служит; рабочие ему объяснили; он подивился и прошел дальше. Затем он подошел еще к одному рабочему и спросил, чем он занят. Рабочий ему ответил так:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Мартин Пачнер - От литеры до литературы [Как письменное слово формирует мир, личности, историю]](/books/1069702/martin-pachner-ot-litery-do-literatury-kak-pismen.webp)