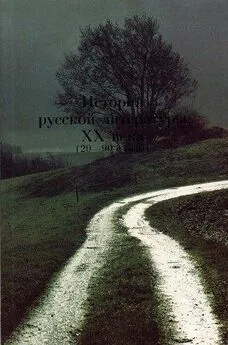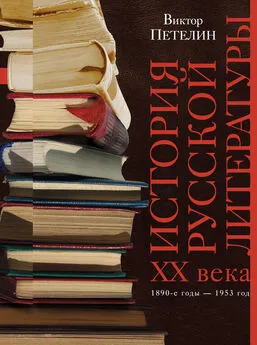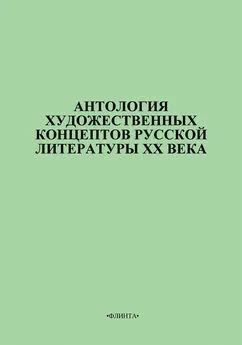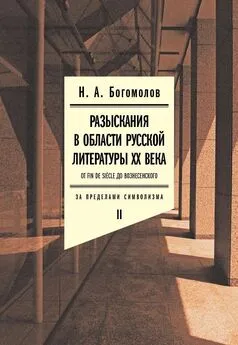Николай Богомолов - Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siecle до Вознесенского. Том 1. Время символизма
- Название:Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siecle до Вознесенского. Том 1. Время символизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814680
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Богомолов - Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siecle до Вознесенского. Том 1. Время символизма краткое содержание
Основанные на обширном архивном материале, доступно написанные, работы Н. А. Богомолова следуют лучшим образцам гуманитарной науки и открыты широкому кругу заинтересованных читателей.
Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siecle до Вознесенского. Том 1. Время символизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Смело обращаюсь к Вам, многоуважаемый Л. Н., с тех пор, как познакомилась с Вашим дивным христьянским учением. Я уверена, что Вы дадите мне ту помощь, которую я прошу у Вас, и не оставите меня одну и бессильную перед теми страшными вопросами, которые я не могу разрешить. Может быть, это дерзко — мне, простой девушке, обращаться к великому русскому писателю и — к смелому апостолу нового святого учения; я, может быть, и не решилась бы, если бы второе ваше звание не уничтожало недоступность первого. К гениальному писателю я не решилась бы писать, к великому христьянину я имею право обратиться за помощью и ожидать ее. Ради Вашего Христа, Л. Н., уделите мне частицу вашего времени, прочтите мое письмо и ответьте мне.
Мне на днях минуло 20 лет, я принадлежу к хорошей дворянской семье, мой отец очень достаточен, можно даже сказать — богат. Моя семья очень честная и по убеждениям не отсталая; мать моя верующая женщина, как веруют многие, как веровала и я в детстве. <���…> Вы можете вполне себе представить жизнь доброй и убежденно верующей, честной женщины, которая относится с глубоким уважением ко всему существующему порядку, ко всем принятым правилам истинной житейской мудрости.
Но представьте себе тоже жизнь девушки молодой, страстной, которая с тех пор, как в первый раз оглянулась сознательно вокруг себя, почувствовала глубокий разлад между своими убежденьями и убежденьями окружающих, между идеалом своей жизни и жизни окружающих? Я была и есть именно в таком положении.
Я воспитывалась за границей, вдали от семьи, и когда я приехала 16 лет, ничто не связывало меня с родными. Мы жили летом в деревне, настоящею барскою жизнию, в свое удовольствие, мать моя, впрочем, интересовалась школою, больницею, клала сотни на благо крестьян, но я чувствовала, что эти сотни кладутся из избытка, а не из скудости, и меня это смущало. <���…> И тут-то впервые показалась мне неправою наша светлая, легкая жизнь, исполненная нра<���в>ственными, умственными и физическими радостями. Во мне появилось еще молодое, зачаточное стремление уничтожить окружающее зло, хотя бы пожертвовав своим счастием, и не только хотя бы , но даже именно для того , чтобы пожертвовать. <���…>
Потом познакомилась я случайно с людьми молодыми, верящими в свои силы и в социалистический идеал и надеющимися перевернуть весь мир на свой лад одним кровавым ударом. <���…> Я с жаром набросилась на своих новых друзей и жестоко поплатилась за необдуманность. <���…>
Я хотела выйти замуж фиктивно, поступить в тайное революционное общество. <���…>
В минуты увлечения, в те минуты и часы, когда я забывала всё, кроме моего святого долга освобождения мира от зла, я была истинно счастлива, потому что я сознавала себя вполне правою. Но потом наставали минуты сомнения, страха, не перед жизнию или смерти<���ю>, а перед нравственною ответственностью, которую я брала на себя. <���…>
И я мучилась невыразимо. Всё существо мое разделилось на две части. Одна мысль говорила: иди, жертвуй матерью, жертвуй его женою, жертвуй, главное, и собою для общего блага, ты идешь не на счастие, не на радость, ты идешь на тяжелый труд, на великое мучение.
Другая мысль шептала: жалко, жалко, жалко.
И они боролись, а я страдала.
Но вот я решилась, еще день — и я навеки рассталась бы с родительским домом, полным роскоши, и неги, и любви, но помешала мне пустая случайность; всё открылось, всё узнали. <���…>
Родные подымали во мне всю женскую гордость и женскую стыдливость. Я не могла перенести, я решилась застрелиться, но мой револьвер потихоньку отняли, и я пыталась зарезаться, но не удалось, на половине дела нашла слабость, эта смерть слишком страшная. <���…>
Меня увезли, ко мне представили сторожа, шпионов домашних. Я не слышала ни одного слова любви и уважения, я чувствовала, что все вокруг глубоко презирают меня. У меня вырвали и при мне сожгли все бумаги мои и письма. Я была одна на всем свете, озлобленная, несчастная, презираемая, с душою, полное <���так!> ненависти и злобы [1278].
И как не похожи на это письмо более поздние свидетельства об отношении Зиновьевой-Аннибал к Толстому. Хотя, собственно говоря, на долгое время имя Толстого вообще пропадает из известных нам ее документов. Лишь в 1902 г. оно снова попадает в наше поле зрения. 26–27 января (8–9 февраля нового стиля) 1902 г. из Женевы она пишет Иванову, находившемуся в Афинах: «…взяла Толстого „Что такое искусство?“. Просмотрела почти всю статью. Наболтано, налгано необдуманно и нечестно, но 2 великие истины сказаны: Искусство — заражение и 2) Искусство должно быть понятным: grand art — Всенародное искусство <���…> Перед завтраком я, Дотинька, попела экзерсисы и два романса. Потом писала и дочитывала Толстого. Мне очень пригодятся все haarsträubende чуши. Так целиком в рот дурацкого Адовратского идут» [1279]. В те же дни Иванову сообщала М. М. Замятнина: «В чудном уюте. Чудная женщина сидит на кушетке своей, читает Толстого об искусстве и изливает самые отборные ругательства на него, да и стоит он их. Сейчас, не зная уж, к<���а>к еще его выругать, назвала его еще „недопеченным кирпичом“. Она и представляла, к<���а>к он по-стариковски все это изрекает, каждую секунду слышатся взрывы смеха негодующего и брани затем, и цитировка какой-нибудь тупости ограниченной. А сейчас напала на место, где нашла, что он совершенно прав, именно, что поэзия и музы<���ка> действительно не могут быть вместе соединены. Я со своей стороны и с этим не согласна, мне чудится единение» [1280].
Однако примерно в то же время жене писал сам Иванов, доверяя пронесшемуся слуху о смертельной болезни писателя: «Сегодня все думается о Толстом. Он должен быть счастлив, если сознает, что умирает. Вокруг умершего наверно будет смута. Вот и Толстой с Ибсеном погасли; за кем черед стать властителем дум?..» [1281].
Иванов стал напряженно думать о Толстом еще в молодости. В его так называемом «Интеллектуальном дневнике», ведшемся в 1888–1889 гг. в Берлине, он несколько раз прямо или косвенно упоминает это имя, однако суждения носят настолько абстрактный характер и настольно отвлечены от личности Иванова, что их трудно принять всерьез. Весьма глубокомысленна, например, запись: «Достоевский и Толстой два типичные выразителя русского духа. В нашем народе можно заметить это двойственное течение мысли. Но в обоих и много общего. И если это общие национальные черты нашего ума, мы мудрейший народ в мире» [1282]. Да, конечно, комментатор верно замечает, что в полном виде такое противопоставление стало обычным лишь после книги Мережковского, однако само по себе желание сопоставить двух писателей, из которых один к тому времени уже обрел гигантскую известность, а другой принадлежал к излюбленным авторам Иванова, не несет в себе, как кажется, сколько-нибудь принципиального смысла.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: