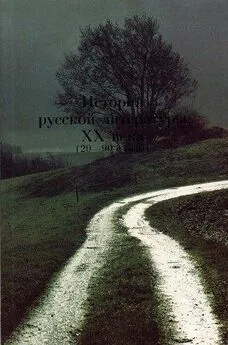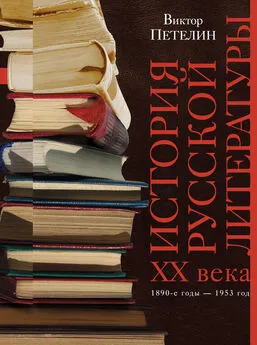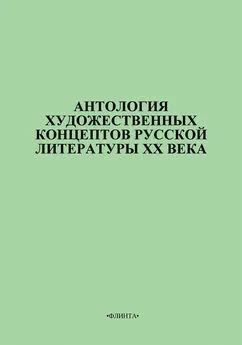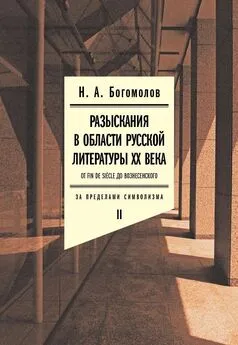Николай Богомолов - Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siecle до Вознесенского. Том 1. Время символизма
- Название:Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siecle до Вознесенского. Том 1. Время символизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814680
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Богомолов - Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siecle до Вознесенского. Том 1. Время символизма краткое содержание
Основанные на обширном архивном материале, доступно написанные, работы Н. А. Богомолова следуют лучшим образцам гуманитарной науки и открыты широкому кругу заинтересованных читателей.
Разыскания в области русской литературы XX века. От fin de siecle до Вознесенского. Том 1. Время символизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И чем далее, тем более мы замечаем в сравнительно немногих высказываниях Иванова о Толстом 1900-х годов отчетливо критические ноты, особенно там, где речь идет о Толстом как религиозном мыслителе и литературной фигуре. Так, уже совсем скоро после приведенного нами выше высказывания о Толстом и Ибсене как властителях дум следует весьма скептический пассаж: «Реформа религиозного сознания необходима. Религиозный вопрос теперь в центре теоретических вопросов. Говорю не о догмате и конфессии, а о „духовной основе“, религиозной стихии жизни. Нужен мыслитель, который бы открыл глаза невидящих на вопросы веры, и слуху неслышащих сделал бы внятными ответы Духа. Толстой обманул ищущих, религию и самого себя. Люди требуют, справедливо, как le grand Art, так и la grande Philosophie. Ницше и здесь сделал einen grossen Wurf. До сих пор богословствует схоластика и философствует схоластика; а демократия, побеждающая, действительная демократия не признает схоластики, und der Lebende hat Recht» [1283]. И еще через две недели, ссылаясь на текст предисловия Толстого к роману В. фон Поленца «Крестьянин», Иванов пишет: «…читала ли ты новую нахальную выходку Толстого в виде сжатой характеристики поэтов и других, как Ницше? Что последний „груб и безнравствен“, сказать легче, чем что он „нравствен и тонок“. Упрек за то, что забывают, говоря о поэтах, Тютчева, показывает, что великий самодур земли Русской не обижен от Бога даром чуткости. Но какая бесшабашность заносчивости в таких утверждениях, как: Фет — сомнительный поэт, Ал<���ексей> Толстой — прозаический стихотворец, Некрасов — вовсе лишен поэтического дара и т. д. <���…> Пушкин никогда не позволял себе произвола и своенравия, — хотя и не все угадывал, как бы мы ожидали: кажется, например, что ценимый им Гоголь все же не был им оценен в меру его еще скрытой силы» [1284].
Но высшего напряжения достигает его отвержение Толстого к 1906–1907 гг. Так, в письме к жене он говорил: «Забыл упомянуть, что Бакст при Серове рассказал, что Лев Толстой высказался обо мне. Напечатали где-то чье-то с ним interview. Он назвал всех новых поэтов „прыщами“ на русской литературе, кроме некоего Ратгауза (который пишет, говорят, какие-то старомодные банальности о звездах и волнах, вдохновлявшие уже Чайковского), и когда его спросили обо мне, он сказал, что не понимает ни слова в моих стихах. Heil dir im Siegerkranz [1285], „великий писатель земли русской“!» [1286]
И еще через год М. М. Замятнина заносит в свой дневник: «Вячеслав переоценивает ценности — все трещит. Поэзия и русская и всеобщая низвергается. Пушкин пережит — невыносимо холоден и искусствен, нет поэтической непосредственности. В русской литер<���атуре> есть только гениальные начинающие Достоевск<���ий> и Лерм<���онтов>. Тючев <���так!> гениальная бездарность. Пушкин всюду скучный моралист. Толстой понял, что литература <���пропуск> и отказался от искусства. И литерат<���ура> и скульптура — шарлатанство — музыка тоже. Только живописцы должны быть честны» [1287]. И высказывания 1920-х годов, например, такие: «…таков Толстой, <���…> и как он мне чужд. <���…> И в противоположность Гомеру, всем вещам говорящему „Да“, Толстой всему говорит некое „Нет“, отбрасывая на все явления мира тень» [1288]. Или другое: «Без сомнения, влияние Толстого-художника на русскую литературу в высшей степени значительно, чего нельзя сказать об его стиле или языке, взятых отдельно, даже если речь идет об его народных рассказах. Его синтаксис неправилен и лишен оригинальности. Лексика, которой он пользуется, не отличается ни новизной, ни исключительностью. Русский <���литературный> язык он не усовершенствовал и даже не обогатил его сколько-нибудь существенно элементами народной разговорной речи» [1289].
Но вместе с тем всего лишь через полгода после того, как Иванов произносил слова, зафиксированные дневником Замятниной, он сообщал Брюсову: «Мне поручено Временным комитетом (Comité d’Initiative) по устройству всероссийского и международного чествования Льва Толстого в этом году (28 августа или позднее) известить тебя, что ты кооптирован Комитетом, и пригласить тебя высказаться, принимаешь ли ты избрание и согласен ли участвовать в работах Комитета по предварительной разработке и практическому осуществлению мер, долженствующих быть принятыми с целью организации предстоящего международного праздника русской мысли и литературы и придания ему соответствующего замыслу величия» [1290]. Незадолго до того он и сам был кооптирован в этот комитет, которому не суждено было практически действовать, но само согласие стать членом организации, созданной для чествования Толстого, очень показательно. Напомним, что после смерти Толстого Иванов пишет статью «Лев Толстой и культура», которую печатает сначала в «Логосе», потом в «Бороздах и межах», — одним словом, у нас есть все основания поверить записи М. С. Альтмана его слов: «…я грешен в непочтительном отношении к Толстому, и это развязывает мне руки, хотя я знаю, что эта вина на мне и что я обязан его почитать» [1291].
Как нам представляется, прослеживание эволюции отношения Брюсова и Вяч. Иванова к Льву Толстому как к писателю, мыслителю, учителю жизни демонстрирует одну весьма яркую особенность: внешнее, зафиксированное печатными текстами почитание далеко не всегда находит подтверждение в дневниках, письмах и мемуарах. Для них Лев Толстой существует в двух планах: с одной стороны — общепризнанный классик, а с другой — весьма ограниченный в своих воззрениях автор, лицемер в жизни, которому самое время убраться из современной литературы. И здесь-то, пожалуй, коренится наиболее существенная особенность отношения двух интересующих нас писателей к своему великому современнику: он стоит у них на пути, мешает литературному успеху, причем мешает не по известной формуле, сохранившейся в воспоминаниях Ахматовой о Блоке: «…я между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лившиц жалуется на то, что он, Блок, одним своим существованием мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: „Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой“» [1292]. Лев Толстой мешал и Брюсову и Вяч. Иванову вполне конкретно, как фигура живой литературы и литературной жизни. Начиная с появления «Воскресения» и приблизительно до 1907 г. вольно или невольно они вынуждены считаться с его существованием, с новыми его произведениями, статьями, известиями, исходящими от других и становящимися достоянием печати. В наибольшей степени это ощутимо, конечно, в истории с брюсовским «О искусстве», когда он был расстроен и обескуражен до того, что пошел на опрометчивый шаг, осмеянный многочисленными критиками, — произнес в предисловии: «И Толстой, и я». Прозаические замыслы не могли не восприниматься на фоне толстовской прозы, собственные оценки соотносились с толстовскими, и так далее. В меньшей степени такая внутрилитературная напряженность относится к Иванову: Толстой преграждал ему путь к тому, чтобы самому сделаться экстраординарной фигурой всей культурной жизни России уже во второй половине 1900-х. Но первый год Башни, сделавшейся в Петербурге явлением столь же значительным, как во всей России была Ясная Поляна; ряд принципиальных статей в «Золотом руне» 1907–1908 гг., возможности «Аполлона» и дискуссии о символизме в конце 1909 и начала 1910 гг. не могли не восприниматься им как безусловное утверждение на первом месте в русском символизме, а через это — и во всей русской литературе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: