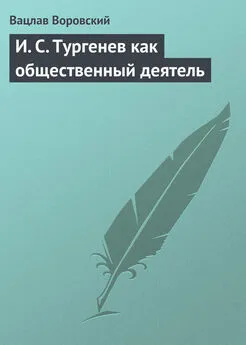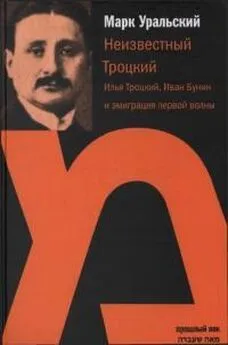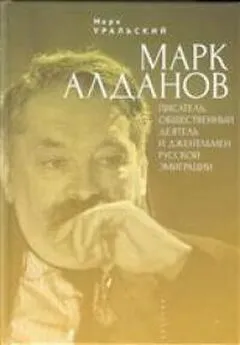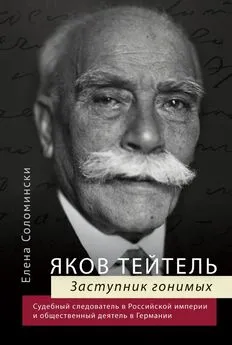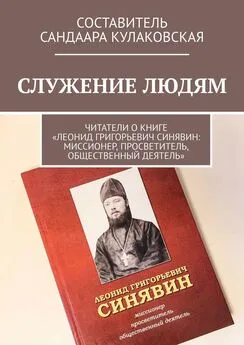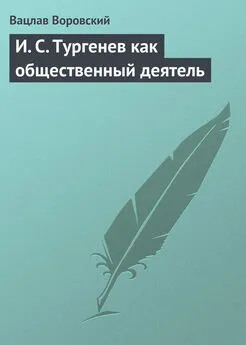Марк Уральский - Марк Алданов. Писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции
- Название:Марк Алданов. Писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-907189-19-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Уральский - Марк Алданов. Писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции краткое содержание
Марк Алданов. Писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Здесь уместно напомнить, что Алданов вел с Маклаковым серьезную политическую дискуссию еще до войны. Ее тема касалась, в первую очередь того, что случилось в России, но затрагивала и предвоенную политическую ситуацию в Европе. Оба политика были согласны с тем, что поддержание оптимального баланса антиномических отношений «права человека и государства» – в их переписке, т.к. речь шла о России, используется термин «империя») – является краеугольным камнем, на котором зиждется стабильность государственного устройства. Василий Маклаков в письме от 22 мая 1937 года формулирует на сей счет следующие, не потерявшие и по сей день политической актуальности, тезисы:
Я всегда сознавал необходимость обоих принципов, которые составляют государственную антиномию, и которые для краткости обозначу Вашими терминами «права человека и империи». Они противоречивы, но оба необходимы. Мы все достаточно видели, к чему приводит империя, которая пренебрегает правами человека; таков был наш старый режим, теперь фашизмы разного рода. Но я отлично понимал, и очень давно, к чему приводят одни права человека; <���…> Освободительное Движение, I-ая Дума, 17-ый год – это все примеры того, что делают права человека, если они забудут об империи. Но нет спасительной формулы к примирению обоих начал; нет универсального компромисса; грань между обоими принципами постоянно передвигается как в зависимости от внешней обстановки (мир, опасность, войны, война), так и от степени общественной культуры, потому что можно иметь далекие идеалы, но вопрос о том, что нужно и почему нужно сейчас, решается не благородством наших идей, а грубыми фактами жизни. Тут политические деятели поневоле уподобляются докторам.
А отсюда и вопрос тактики. Если все дело в степени культуры в широком смысле этого слова, то она достигается только медленным воспитанием, известными навыками, а не насилиями и приказами. Тут еще больше нужно знать, что возможно, а не только то, что нужно и что желательно. Вы, который знаете французских ораторов, может быть, припомните пассаж Гамбетты об оппортунизме, не помню, в какой речи, который кончается словами:
«Можно сколько угодно применять к этой политике неблагозвучный и даже непонятный эпитет (имеется в виду оппортунизм), но я скажу, что не знаю другой, поскольку это политика раз ума и – добавлю – политика успеха».
Эти несложные мысли составляют то, что Вы называете «золотым фондом»; они у меня остались и теперь, как были тогда <���…>. Меняться, пожалуй, могло только одно: понимание фактической обстановки <���и> степени нашей некультурности и неподготовленности. Но можете ли Вы сказать, что доктор изменил свои взгляды и понимания, если он считает организм больного более слабым, чем считал его раньше. Все мои нападки на общественных деятелей либо характера тактического, <���…> или иногда программного, ибо в защите прав человека они доходили до забвения прав империи.
<���…>
Вы вслед за Керенским меня упрекнули, будто я нашел, что конституция пришла слишком рано <���…>. …я сам это считаю не утверждением, а парадоксом; конечно, конституция запоздала. Моя идея в том, что, несмотря на такое запоздание, она застала нас, русское общество, неподготовленным; мы требовали конституции, а когда она пришла, у нас не было даже политических партий. Единственно в этом смысле я и сказал, что она пришла слишком рано. Представьте, что гости пришли с опозданием к назначенному часу, а хозяйка все-таки оказалась не готова, повар тоже; я бы сказал, как это ни парадоксально, гости пришли слишком рано.
Отвечая 28 октября 1938 года на высказывания Маклакова, Алданов писал:
Катастрофа европейской культуры почти одинаково касается всех нас, людей либерального, в широком смысле, образа мыслей, независимо от оттенков. Помните, Нехлюдов, кажется, удивлялся, что его называют либералом за то, что он высказывает, казалось бы, элементарные и для всех обязательные истины. Именно эти азбучные истины и переживают катастрофу, а с ними все их защитники, какова бы ни была разница между ними во всем остальном. Вы склонны говорить преимущественно об ответственности. Если так, то разница между Вашим поколением и моим весьма незначительна, – она лишь в том, что Вы и люди Вашего поколения занимали гораздо более видное место. Но, по-моему, ответственность наша отходит теперь на второй, если не на десятый план: все нынешние несчастья имеют основной причиной войну 1914 года, а в ней ни «Вы», ни «мы» никак не виноваты [МАКЛАКОВ. С. 25–27].
После войны взгляды Маклакова не претерпели существенных изменений. Полагая, что смягчение непримиримого антисоветизма может пойти на пользу измученной русской диаспоре, он из «тактических соображений» примкнул к оппортунистическому крылу парижской эмиграции и прибыл на прием в посольстве СССР.
Прием в советском посольстве прошел в приподнятой и дружелюбной атмосфере. Поднимались тосты «за маршала Сталина», – что особо возмутило Алданова, и его друзей-политиков в США, «победоносную Красную армию», «Великий Советский народ»… Однако и в парижской эмигрантской среде, и за океаном вопросы «Что делать?» и «Как в нынешних условиях бытия позиционировать себя по отношению к Москве?» отнюдь не стали ясней, а напротив, с этого момента дискуссия по ним разгорелись с новым жаром. Она сопровождалась ссорами, громкими скандалами и взаимными обвинениями, затронувшими и общественно-политические, и литературные круги эмиграции. Даже аполитичный, всегда дистанцирующийся от эмигрантских «разборок» Владимир Набоков-Сирин не удержался, сочинил и отправил В. М. Зензинову текст, который тот не без оснований назвал стихотворением в прозе.
<���…>
Остается набросать квалификацию эмиграции.
Я различаю пять главных разрядов.
Люди обывательского толка, которые невзлюбили большевиков за то, что те у них отобрали землицу, денежки, двенадцать ильфпетровских стульев.
Люди, мечтающие о погромах и румяном царе. Эти обретаются теперь с советами, считаю, что чуют в советском союзе Советский союз русского народа.
Дураки.
Люди, которые попали за границу по инерции, пошляки и карьеристы, которые преследуют только свою выгоду и служат с легким сердцем любым господам.
Люди порядочные и свободолюбивые, старая гвардия русской интеллигенции, которая непоколебимо презирает насилие над словом, над мыслью, над правдой [БУДНИЦКИЙ (II). С. 244–255].
В первую послевоенную трехлетку «обновленческие» настроения в русском Зарубежье преобладали. Фашизм стал главным «стандартом беззакония» в мире, а статус коммунизма был по умолчанию понижен до уровня «терпимо». «Люди порядочные и свободолюбивые» из числа «обновленцев» тешили себя надеждами. Советская родина подпитывала их зазывными жестами и пропагандистскими акциями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: