Екатерина Глаголева - Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения
- Название:Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03697-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Глаголева - Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения краткое содержание
Студенчество — тяжелая пора. Школярам порой приходилось голодать, а их спины покрывали шрамы от ударов, которыми вколачивали в них знание латинской грамматики.
Студенчество — веселая пора. Члены университетских сообществ устраивали шутовские испытания для новеньких, производили набеги на трактиры и постоялые дворы, посещали игорные дома порой чаще, чем классы, распевали фривольные стихи на мотив церковных песнопений.
Тяга к знаниям и охота к перемене мест заставляли студентов колесить по всей Европе. Бывало, переселялись даже целые университеты, не поладившие с местными властями.
Книга Екатерины Глаголевой рассказывает, почему обучение велось на латыни, как возникли знаменитые сегодня Сорбонна, Оксфорд и Кембридж, кто был прототипом доктора Фауста, как правительства боролись с «утечкой мозгов», какие факультеты считались наиболее престижными и какие жертвы приносили на алтарь науки ее верные адепты в надежде узреть истину.
Возрастные ограничения: 16+
Повседневная жизнь европейских студентов от Средневековья до эпохи Просвещения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Робер де Сорбон не закрывал двери своей коллегии перед богатыми. Социетарии, не получавшие стипендию, должны были выдержать те же испытания, что и прочие, но платили за проживание пять с половиной парижских су в неделю — такую же сумму получали стипендиаты.
В XVIII веке бакалавры, стремящиеся стать лиценциатами на богословском факультете Сорбонны, делились на ubiquistes (вездесущих), живших в семинариях, приходах, коллегиях, пансионах и не принадлежавших ни к какому особенному обществу; сорбонистов (гостей и социетариев); наварристов (живших в Наваррском коллеже) и монахов (доминиканцев, кордельеров).
В Кембридже в XVII столетии студенты Тринити-колледжа обитали в общежитии по двое в комнате. Три десятка жилых комнат помещались под самой крышей; в каждой, довольно просторной, было две кровати в альковах и две конторки у окна. Как правило, один из обитателей был богатым пансионером, а другой, из бедной семьи, должен был исполнять обязанности его слуги: снимать с него сапоги, заправлять постель, выносить ночной горшок. В «студенческом городке» имелись также многочисленные лавчонки, торговавшие всем необходимым; там можно было купить и провизию, и чернила, перья и тетради. На стипендию — десять фунтов в год — можно было прожить, если ограничивать себя во всём.
Курсанты военных училищ проживали не в казармах, а на съемных квартирах. «Квартиры ни гардемаринам, ни офицерам в Гишпании не дается, и нанимают за свои деньги из жалованья; а некоторым гардемаринам даны квартиры королевские в кастеле (замке. — Е. Г .); а мы нанимали из жалованья, — сообщает Иван Неплюев. — По ордеру королевскому должен всякий гардемарин во втором часу ночи быть на квартире и никуды ночью с квартиры не сходить, чего, ходя по вечерам, осматривают бригадиры, а ежели который гардемарин явится в какой вине, то поручик и прочие офицеры штрафуют; первый штраф: скажут арест, чтобы никуда с квартиры не сходил; 2-ой: сажают в камору и замыкают; 3-ий: по великой вине сажают в тюрьму и есть, кроме хлеба и воды, не дают».
Посвящение в студенты
«Лисы» и бурши. — Обряды посвящения. — Дедовщина. — Студенческие общества
Средневековый университет являлся, по сути, цехом, корпорацией, созданной по образу и подобию других «профессиональных союзов». У любого мастера были ученики и подмастерья; в университетах у магистров и профессоров были студенты и бакалавры. Ремесленники подчинялись правилам своего цеха; у университета был свой устав. Люди, занимающиеся одной профессией, селились на определенной улице; практически в каждом университетском городе был свой «Латинский квартал». У ремесленных цехов были свои ритуалы, праздники, даже свое арго; в университетах строго соблюдали церемонии, почитали святых покровителей и говорили на латыни. Наконец, подмастерья должны были совершить турне по Европе и создать «шедевр», чтобы быть произведенными в мастера; студенты переходили из университета в университет, попутно сдавая экзамены, прежде чем получить степень доктора.
В процессе этих странствий они образовывали сообщества, жившие в складчину и избиравшие старшего из своей среды. В Германии такое сообщество стали называть бурсой [21] Burse (от др. — греч. βυρσα — кожа, бурдюк) — кошелек; здесь: деньги, используемые совместно (нем).
, а старшего — ректором [22] Ректор — руководитель (лат.); это звание тогда присваивалось самым разным гражданским чиновникам и церковным иерархам.
. Новенького именовали «лисой» (Fuchs) или «рыжиком»; его целью было стать полноправным членом ватаги — буршем. Проще всего это было сделать, прибившись к землякам. Но одного общего происхождения мало, новичок должен был пройти обряд посвящения, который становился настоящим испытанием на прочность. Зато потом он всегда мог рассчитывать на помощь и поддержку «братьев по цеху».
В «оседлых» студенческих общинах эти правила также поддерживались и культивировались. Новички непременно должны были явиться к землякам. Чтобы вступить в «братство», было недостаточно продекламировать «Отче наш» или предъявить справку о зачислении в университет с принесением присяги. Братство студентов было светским обществом, и «рыжикам» предстояло пройти через шутовской обряд посвящения, в котором присутствовала «дедовщина».
В руководстве для школяров конца XV века «Manuale Scolarium» описана церемония «очищения», имеющая целью превратить неотесанного юнца, полуживотное, чьи запах дикого зверя, бегающий взгляд, длинные уши и острые зубы, похожие на клыки, вызывают общий хохот и насмешки, в человеческое существо. Ему отрывают «рога», стачивают зубы, его отмывают от грязи. В пародии на исповедь он кается в невероятных прегрешениях. Бывший деревенщина, явившийся в город «из дикого леса», должен превратиться в «культурного человека».
На деле новичка подвергали издевательским процедурам: заставляли полоскать рот жидкостью из отхожего места, били, щипали, стригли тупыми ножницами, обрезали ногти, пихали в рот всякую дрянь и при этом задавали коварные вопросы типа «Сколько блох входит в меру?». Если растерявшийся «лис» (или «птенец») отвечал «не знаю», то получал пощечину со словами: «Дурак, они не входят туда, а выпрыгивают оттуда».
В разных общинах обряды отличались друг от друга. Например, в Монпелье новичок должен был «совершить прыжок» (с высоты или через препятствие). По их завершении посвященный целовал руку бакалавра, который только что над ним издевался, и устраивал пирушку для новых товарищей. После этого он поступал в слуги к одному из старших, должен был чистить его одежду и обувь, быть у него на посылках, прислуживать за столом. Только через год, задав новую пирушку, «птенец» становился «стариком» и мог сам тиранить новичков.
В Авиньоне новичка называли «желторотиком». В первый год учебы ему полагалось оказывать «старикам» разного рода услуги и выказывать к ним почтение. Он приглашал студентов на собрания, убирал со стола, не мог сидеть, высказываться и покрывать голову в присутствии старших, которые при нем сидели в шляпах, должен был идти по улице позади них и занимать место в задних рядах. За непослушание полагалось несколько ударов линейкой. По истечении годичного срока «желторотика» ждало последнее испытание. Если старшие высказывались за его принятие, то по рекомендации наставников его окатывали водой, чтобы смыть пятно «желторотости», после чего любой назвавший его «желторотиком» получал два удара линейкой.
В Алькале новеньких клали на колесо, выгоняли на улицу без верхней одежды, когда шел снег, били палками, отбирали диплом… Испанец Франсиско де Кеведо (1580–1645) вспоминал о своем первом дне в университете: «Я вошел во двор и не успел оглядеться, как они окружили меня, крича: „Новичок!“ Чтобы не подавать виду, что мне не по себе, я засмеялся; человек восемь или девять со смехом подошли ко мне». Находчивый неофит освоился довольно быстро, его приняли в общину со словами: «Да здравствует наш товарищ, примем его в друзья; пусть он пользуется правами старших: может получить чесотку, ходить грязным и так же страдать от голода, как мы!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
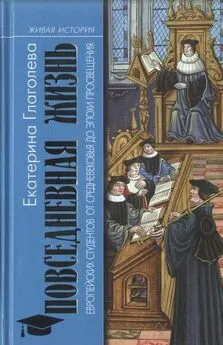
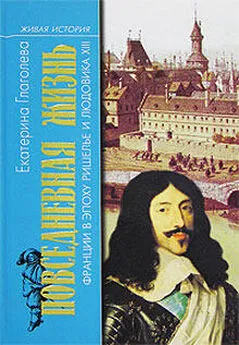
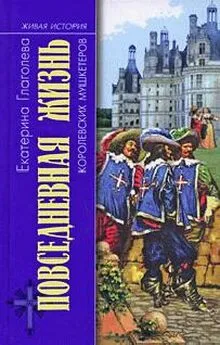
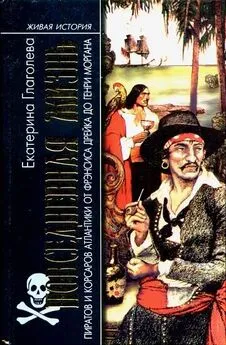



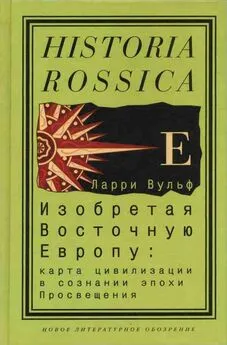
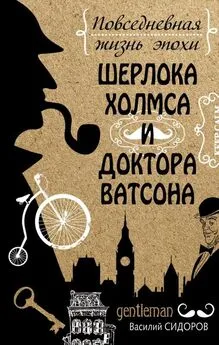
![Жорж Вигарелло - История тела Том 1 [От Ренессанса до эпохи Просвещения]](/books/1081515/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-1-ot-renessansa-d.webp)
![Филипп Арьес - История частной жизни Том 3 [От Ренессанса до эпохи Просвещения]](/books/1082541/filipp-ares-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-3-ot-renes.webp)