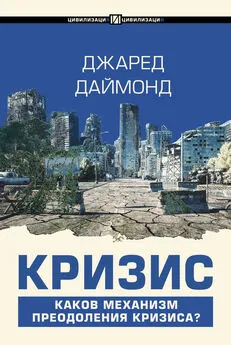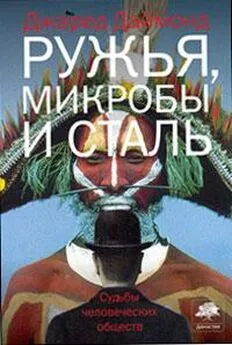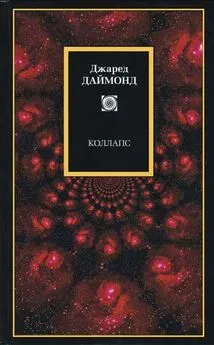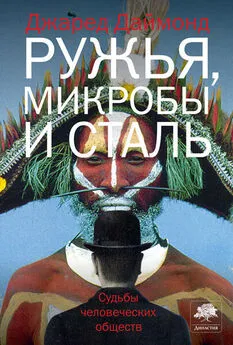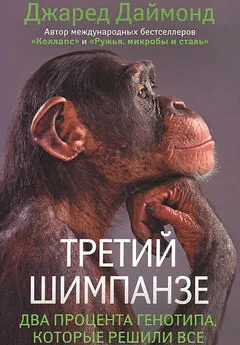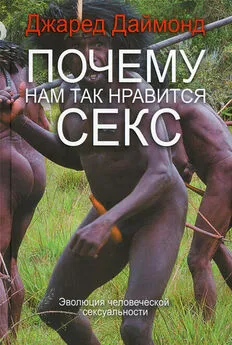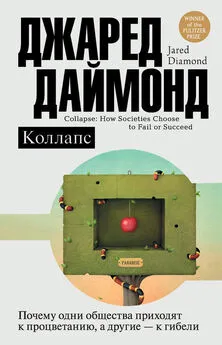Джаред Даймонд - Кризис
- Название:Кризис
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-116636-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джаред Даймонд - Кризис краткое содержание
Почему одни страны успешно преодолевают его последствия, а другие нет?
И каков механизм преодоления?
Как шесть стран – Япония, Финляндия, Чили, Индонезия, Германия и Австралия – оказались в кризисном положении и как они нашли из него выход?
Кризисы были и будут всегда…
Какая страна следующая? Вновь Япония? Или США? А может быть, весь мир?
Обо всем этом и многом другом рассуждает в своей книге Джаред Даймонд — автор, удостоенный Пулитцеровской премии за книгу «Ружья, микробы и сталь».
Кризис - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В отдаленных районах Новой Гвинеи, где я провожу полевую работу и куда еще не проникли новые коммуникационные технологии, все общение ведется лицом к лицу и требует полного внимания, как и раньше. Аборигены Новой Гвинеи проводят большую часть своего бодрствования за разговорами друг с другом. В отличие от рассеянных и обрывочных бесед американцев, аборигены Новой Гвинеи не отвлекаются ни на мобильные телефоны, ни на электронную переписку в ходе разговора с человеком, который физически находится рядом, но удостаивается в современном американском обществе только части внимания. Сын одного американского миссионера, который вырос в деревне на Новой Гвинее и перебрался в США уже в школьные годы, описывал шок, который вызвало у него сравнение детского поведения в Новой Гвинее и Америки. На Новой Гвинее дети весь день шмыгали из хижины в хижину. В США, как обнаружил этот человек, «дети запираются дома, закрывают дверь комнаты и усаживаются перед телевизором».
Средний американский владелец мобильного телефона проверяет свой аппарат в среднем каждые четыре минуты, тратит минимум шесть часов в день на изучение экрана мобильного телефона или компьютера и более 10 часов в день (то есть основное время бодрствования) на использование тех или иных электронных устройств. В результате большинство американцев больше не встречаются вживую, не видят других воочию, не слышат их голоса лицом к лицу, не стремятся воспринять, так сказать, целиком. Вместо этого мы воспринимаем друг друга преимущественно через цифровые сообщения на экранах и порой говорим по мобильным телефонам. Нам непросто нагрубить живому человеку, стоящему в двух футах от нас, когда мы видим и слышим его воочию. Но этот запрет исчезает, когда люди превращаются в слова на экране. Гораздо проще грубить и выказывать пренебрежение к словам на экране, чем к живому человеку, смотрящему тебе в лицо. Привыкнув к такому поведению, легче сделать следующий шаг и перейти к оскорблениям живого человека.
Тем не менее, такое объяснение нынешней американской политической бескомпромиссности и постепенного исчезновения вежливого поведения как такового наталкивается на очевидное возражение. Общение лицом к лицу стремительно деградирует не только в США, но по всему миру, особенно в богатых и развитых странах. Итальянцы и японцы пользуются мобильными телефонами не меньше, чем американцы. Почему же политические компромиссы по-прежнему возможны, а социальное отторжение не возросло в других богатых странах?
Я могу придумать два возможных объяснения. Во-первых, в ХХ столетии электронные коммуникации и многие другие технологические инновации появились именно в США, откуда они (и их последствия) затем распространились по другим богатым странам. Поэтому США выступают, скажем так, просто первой ласточкой, а не уникальным образчиком упадка политического компромисса; прочие страны ждет та же участь по мере распространения телефонов и телевидения. Вообще-то мои британские друзья утверждают, что личное насилие в Великобритании сегодня случается чаще, чем когда я жил там 60 лет назад, а австралийские друзья сообщают, что австралийская политическая жизнь сделалась менее склонной к компромиссам. Если это объяснение верно, то всего лишь вопрос времени, когда другие богатые страны угодят в ту же политическую ловушку, в которой ныне очутились США.
Другое возможное объяснение состоит в том, что Америка издавна – по нескольким причинам – располагала малым социальным капиталом, способным противостоять наступлению обезличенных современных технологий. По площади США минимум в 25 раз больше любой другой богатой страны, кроме Канады. Наоборот, население США – точнее, плотность населения (численность людей в пропорции к площади) – в 10 раз ниже, чем в большинстве других богатых стран; лишь Канада, Австралия и Исландия населены скуднее, чем Америка. США всегда подчеркивали важность индивидуальности, в отличие от европейцев и японцев, уделявших пристальное внимание коллективу; только Австралия превосходит США в рейтингах индивидуализма среди богатых стран. Американцы часто переезжают – в среднем каждые пять лет. Гораздо большие расстояния Америки в сравнении с Японией или Западной Европой означают, что при переездах американцы могут отдаляться от бывших коллег и друзей намного сильнее, чем те немногие японцы и европейцы, которые переселяются в другие места. В результате у американцев более эфемерные, если угодно, социальные связи и выше «оборот» друзей, но гораздо меньше друзей на всю жизнь, живущих рядом.
Но площадь США и расстояния внутри страны зафиксированы и вряд ли сократятся. Не думаю, что американцы откажутся от сотовых телефонов или станут менее активно переезжать. Следовательно, если верно объяснение, связывающее упадок американской политической культуры с факторами в основе скудости нашего социального капитала, политический компромисс в США все равно подвергается большему риску, нежели в других богатых странах. Это не значит, что мы обречены на худший исход и беспросветный политический тупик. Это означает, что потребуются осознанные усилия со стороны американских политических лидеров и американских избирателей, чтобы избежать тупика, и эти усилия должны быть активнее, чем в других странах.
В данной книге уже обсуждались две страны – Чили и Индонезия, – где крах политического компромисса привел к установлению военной диктатуры, которая задалась целью истребить своих противников. Такая перспектива до сих пор видится абсурдной большинству американцев. Она показалась бы абсурдной и моим чилийским друзьям в 1967 году, вздумайся кому-нибудь пофантазировать о чем-то подобном. Тем не менее, мы помним, что произошло в Чили в 1973 году.
Американцы могут возразить: «Но США отличаются от Чили!» Да, конечно, США отличаются от Чили, и потому менее вероятно, что наша демократия выродится в насильственную военную диктатуру. Но имеется ряд факторов, говорящих об обратном. К числу позитивных факторов относятся наши сильные демократические традиции, наш исторический идеал равенства, отсутствие у нас наследственной олигархии землевладельцев, как в Чили, и полный контроль гражданских за политическими амбициями военных на протяжении всей нашей истории. (Чилийская армия, напомню, несколько раз вмешивалась в политику и до 1973 года.) К числу негативных факторов принадлежат следующие: обилие оружия в частном владении, избыток индивидуального насилия сегодня и в прошлом, опыт насилия против социальных групп (против афроамериканцев, коренных американцев и некоторых иммигрантов). Соглашусь, что движение к военной диктатуре в США будет отличается от тех шагов, которые были совершены в Чили в 1973 году. Крайне маловероятно, чтобы наши военные начали действовать самостоятельно и устроили переворот. Вместо того мне видится политическая партия во власти в стране или в правительствах штатов, манипулирующая голосами избирателей, составляющая суды из лояльных ей судей, использующая эти суды для оспаривания «неудобных» результатов выборов и привлекающая «правоохранительные органы», то есть полицию, национальную гвардию, резервистов или даже армию, для подавления политической оппозиции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: