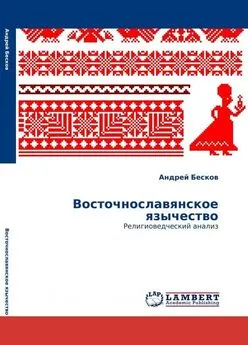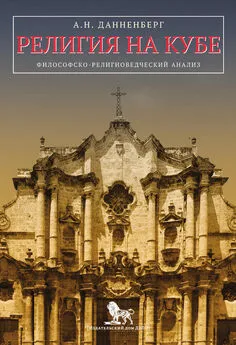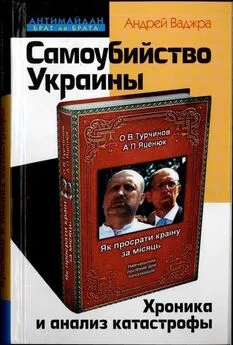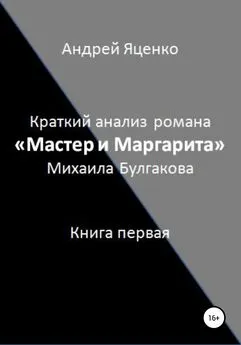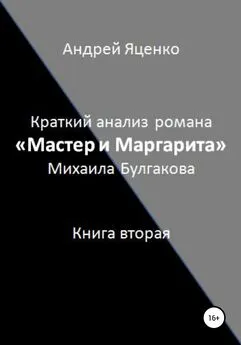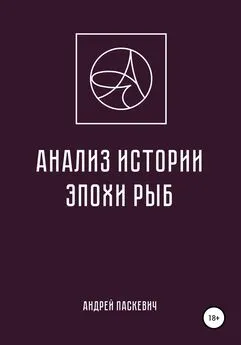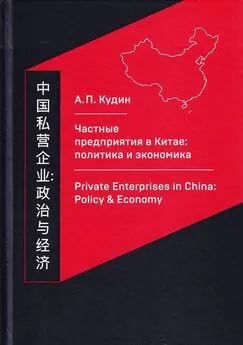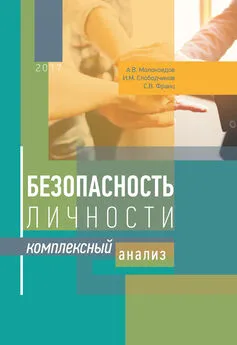Андрей Бесков - Восточнославянское язычество: религиоведческий анализ
- Название:Восточнославянское язычество: религиоведческий анализ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:LAP LAMBERT Academic Publishing
- Год:2010
- Город:Saarbr,ücken
- ISBN:978-3-8433-0023-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Бесков - Восточнославянское язычество: религиоведческий анализ краткое содержание
Книга делится на два взаимосвязанных блока: теоретико-методологический и историко-этнографический. В первом из них предпринят анализ восточнославянского язычества с религиоведческой точки зрения, задана определённая система координат, в рамках которой проводится исследование, уточняется и детализируется понятие «мифология»; во втором блоке проводится ревизия устоявшихся взглядов на природу некоторых древнерусских божеств и обосновывается новое видение их места в мифологии восточных славян.
Бесков Андрей Анатольевич, кандидат философских наук, научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарных исследований и научно-образовательных практик «Ratio» при НГПУ, член Нижегородского религиоведческого общества. Научные интересы: традиционная культура славян, сравнительная мифология, неоязычество.
Восточнославянское язычество: религиоведческий анализ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Элементы язычества становятся достоянием современной отечественной массовой культуры, проникая на страницы художественных книг и Интернет-сайтов, в фильмы и мультфильмы, тексты песен некоторых рок-групп (появилось даже отдельное музыкальное направление — pagan-metal, в котором тексты песен напрямую посвящены восхвалению и популяризации неоязыческой идеологии). Имена древнерусских языческих божеств носят некоторые российские коммерческие компании.
Интерес общества к своей истории и культуре можно оценивать только положительно, но ситуация, когда их основы фальсифицируются и используются в качестве аргументов националистической, а подчас и откровенно фашистской пропаганды не может не тревожить из-за её направленности как против принципов научной этики, так и против общечеловеческих, общегражданских ценностей.
Определённый интерес проблематика этой работы может иметь и для современного православия, озабоченного в последнее время всплеском неоязычества, выражающегося в отказе от традиционных христианских ценностей и норм поведения и стремящегося заменить их иными мировоззренческими позициями.
Есть ещё один аспект актуальности темы исследования. История изучения восточнославянского язычества насчитывает уже не менее трёх столетий. Менялись и усложнялись методы изучения мифологических представлений древних славян. Под подобные исследования подводилась всё более солидная методологическая база, на смену трудам учёных XVIII–XIX вв. приходили более сложные и формализованные монографии специалистов ещё более широкого круга наук, рассматривавших славянское язычество со своих узкопрофессиональных позиций. Сложилась парадоксальная ситуация — изучением язычества занимались и занимаются историки, археологи, лингвисты, фольклористы, этнографы — но не религиоведы. С одной стороны, это понятно, поскольку сведения о восточнославянском язычестве чрезвычайно разношёрстны и, чтобы свести их воедино, требуются усилия специалистов различного профиля. Но в то же время приобретённые таким образом знания о славянской мифологии получаются расчленёнными, обрывочными, во многом противоречивыми. Это заметно даже из анализа материалов школьных учебников, куда, в идеале, должна попадать только бесспорная, многократно проверенная информация. Назрела настоятельная потребность сведения всех накопленных в рамках различных научных дисциплин материалов воедино. Эта задача должна быть возложена на религиоведение, которое в рамках современной научной и образовательной парадигмы мыслится именно в качестве интегративной научной дисциплины. Однако помимо механического объединения накопленных знаний в единое целое, религиоведение должно рассматривать их в своём специфическом ракурсе, преследуя те цели и задачи, которые стоят перед ним как перед отдельной специфической научной дисциплиной. Учитывая молодость этой дисциплины в рамках российской науки, необходимо уточнить эти цели и задачи, методы исследования, а также сущность того явления, которое называется восточнославянским язычеством. Эти вопросы будут затронуты в данном исследовании.
Анализ историографии по теме исследования предполагает два аспекта, составляющих единство предмета данного исследования — изучение теории мифа и изучение работ, посвящённых конкретно анализу восточнославянской мифологии.
Анализ всего многообразия идей и гипотез, посвящённых мифу и мифотворчеству, просто невозможен в рамках столь небольшой по объёму работы. Как отмечал Н.Л. Сухачёв, в XX в. миф «получил столько же определений, сколько насчитывается авторов, размышляющих над мифом, живописующих самые неожиданные его отражения в социуме» [2] Сухачев Н.Л. Феномен духа и космос Мирчи Элиаде // Элиаде Мирча. Азиатская алхимия. Сборник эссе. — М., 1998. С. 7.
. Пусть эти слова выглядят некоторым преувеличением (как показывает наш собственный анализ — далеко не каждый автор, размышляющий над проблемой мифа, даёт ему определение), но всё же они недалеки от истины — действительно существует огромное количество трактовок мифа. С целью определения специфики употребления данного понятия в современном (преимущественно отечественном) научном дискурсе, в этой работе предпринято изучение наиболее заметных и основополагающих работ отечественных и зарубежных исследователей (философов, филологов, историков, фольклористов, религиоведов), посвящённых данной проблематике. В числе этих авторов — такие имена как: С.А. Токарев, В.Я. Пропп, А.Ф. Лосев, Я.Э. Голосовкер, Ф.Х. Кессиди, М.И. Стеблин-Каменский, И.М. Дьяконов, О.М. Фрейденберг, М. Элиаде, К. Леви-Строс, К. Хюбнер и др. При отборе анализируемой литературы приоритет отдавался не только трудам наиболее именитых теоретиков в этой области, но и работам учёных-практиков, которые непосредственно работали с остатками древних мифологических представлений в народной среде или изучали древние мифологии с опорой на аутентичные первоисточники.
Рассмотрению вопросов, связанных с восточнославянской мифологией, посвящено на порядок большее количество научных публикаций. Из целей и задач данной работы вытекала необходимость проанализировать в первую очередь те работы, в которых раскрывается сущность божеств древнерусского пантеона, традиционно считающихся солярными — Хорса и Дажьбога (в первую очередь Хорса — как божества, чьи функциональные мифологические характеристики и этническая принадлежность наиболее спорны).
Что касается вопроса о сущности бога Хорса, то хороший обзор историографии проблемы был сделан в относительно недавней монографии М.А. Васильева [3] Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. М., 1999. С. 17–27 и далее.
. В настоящем исследовании дополнительно выявлена и проанализирована история становления и закрепления научной традиции, связывающей это божество с солярным культом на основе его этимологии, предположительно возводимой к иранским корням. Эта версия, высказанная впервые П.Г. Бутковым в 1821 г., была вскоре повторена такими видными славистами как П.И. Прейс, И.И. Срезневский, О.М. Бодянский. Затем она становится общим местом большинства публикаций, посвящённых древнерусскому пантеону, в XIX в. её повторяют ещё Н.И. Костомаров, И.Е. Забелин и некоторые другие, далее она плавно переходит в следующее столетие — мы находим её в работах Ф.Е. Корша, Е.Е. Кагарова. Но если в дореволюционный период эта версия хоть и превалировала, но не являлась единственно возможной (другие гипотезы высказывали А.С. Фаминцын, М.С. Ерушевский, Е.В. Аничков), то в советское время данная точка зрения стала господствовать практически безраздельно — А.А. Зализняк, Р.О. Якобсон, Н. А. Баскаков, Б.А. Рыбаков, В.В. Иванов и В.Н. Топоров, и многие другие. В настоящее время её отстаивает М.А. Васильев. За рубежом распространение данной версии связано с именами Л. Нидерле, Г.В. Вернадского, Р. Якобсона, К.Г. Менгеса, Г. Ловмянского.
Интервал:
Закладка: