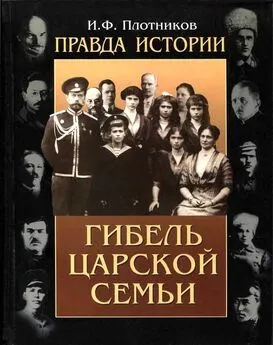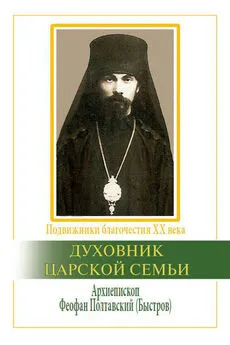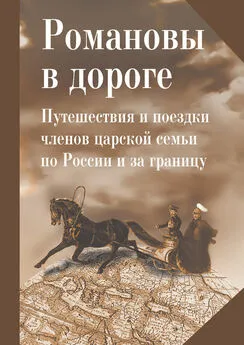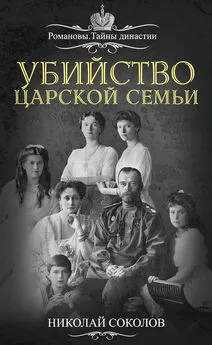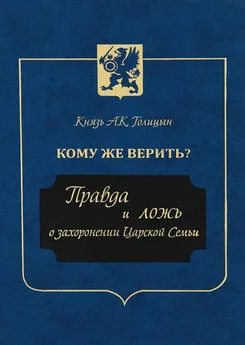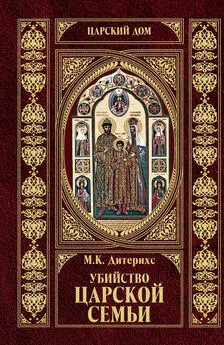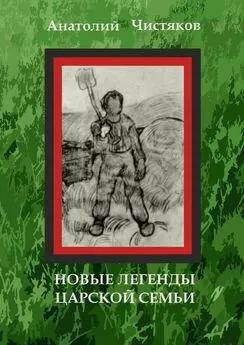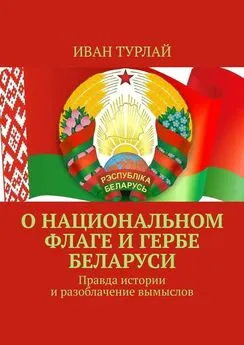Иван Плотников - Правда истории. Гибель царской семьи
- Название:Правда истории. Гибель царской семьи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Плотников - Правда истории. Гибель царской семьи краткое содержание
Правда истории. Гибель царской семьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В 1934 г. Юровский дал более подробное описание действа: «Нужно сказать, что все так дьявольски устали, что уж не хотели копать новой могилы, но как всегда в таких случаях бывает, двое-трое взялись за дело, потом приступили другие. Тут же развели костер, и пока готовилась могила, мы сожгли два трупа: Алексея и по ошибке вместо Александры Федоровны сожгли, очевидно, Демидову. На месте сжигания вырыли яму; сложили кости, заровняли, снова зажгли большой костер и золой скрыли всякие следы. Прежде чем сложить в яму остальные трупы, мы облили их серной кислотой, яму завалили, шпалами закрыли, грузовик пустой проехал, несколько утрамбовали шпалы и поставили точку. В 5-6 часов утра, собрав всех и изложив им важность сделанных дел, предупредив, что все должны о виденном забыть и ни с кем никогда об этом не разговаривать, мы отправились в город. Потеряв нас, когда мы уже все кончили, приехали ребята из облЧК: товарищи Исай Родзинский, Горин и еще кто-то».
Сухорукое описал процесс захоронения так: «...решили шпалы снять, выкопать яму, сложить трупы, залить серной кислотой, закопать и снова наложить шпалы. Так было и сделано. Для того, что если бы белые даже нашли эти трупы и не догадались по количеству, что это царская семья, мы решили штуки две сжечь на костре, что мы и сделали, на наш жертвенник попал первый наследник и вторым младшая дочь Анастасия, после того как трупы были сожжены, мы разбросали костер, на середине вырыли яму, все оставшееся не догоревшее сгребли туда, и на том же месте снова развели огонь и тем закончили работу. Приехали в Екатеринбург на вторые сутки усталые и злые...» 122.
Родзинский, спустя многие годы, рассказывал: «Мы сейчас же эту трясину расковыряли. Она глубокая бог знает куда. Ну, тут часть разложили этих самых голубчиков и начали заливать серной кислотой, обезобразили все, а потом все это в трясину. Неподалеку была железная дорога. Мы привезли гнилых шпал, проложили маятник (так в тексте; очевидно, опечатка, следует читать «мостик». — И. П.), через самую трясину. Разложили этих шпал в виде мостика такого заброшенного через трясину а остальных на некотором расстоянии стали сжигать. Но вот помню, Николай сожжен был, был этот самый Боткин, я сейчас не могу вам точно сказать, вот уже память. Сколько мы сожгли, то ли четырех, то ли пять, то ли шесть человек сожгли. Кого, это уже точно я не помню. Вот Николая точно помню. Боткина и, по-моему; Алексея. Ну, вообще, должен вам сказать, человечина, ой, когда горит, запахи вообще страшные 123. Боткин жирный был. Долго жгли их, поливали и жгли керосином там, что-то еще такое сильнодействующее, дерево тут подкладывали. Ну долго возились с этим делом. Я даже, вот, пока горели, съездил, доложился в город и потом уже приехал. Уже ночью было, приехал на легковой машине, которая принадлежала Берзину. Вот так, собственно говоря, захоронили» 124.
Следует особо подчеркнуть, что, как неоднократно отмечал сам Юровский и другие похоронщики, предупреждение о неразглашении тайны делалось предельно сурово. «После этой тяжелой работы, — писал в 1922 г. Юровский, — на третьи сутки, т.е. 19 июля утром закончив работу, я обратился к товарищам с указанием на важность работы и на необходимость полной тайны до тех пор, пока станет официально известным». Сухорукое отмечал, что его группе еще перед отправкой на задание в облчека при предупреждении дали ясно понять, что при разглашении тайны им неминуемо грозит расстрел. А ЧК умела производить его и без предупреждений. Это явилось причиной невыдачи места действительного захоронения, его «технологии» кем-либо из большой группы участников. И прежде всего этим можно объяснить, почему даже словоохотливый Ермаков всю жизнь на публике и в письменных документах, воспоминаниях говорил о сожжении, полном уничтожении всех. Ему был дан карт-бланш на вранье партией и ЧК! А между тем на месте захоронения он сфотографировался и на обороте фото написал об этом (потом, правда, пытался стереть надпись); как и Юровский, Ермаков говорил правду А. И. Парамонову и другим близким.
Необходимо сделать одно отступление в связи со снимками П. 3. Ермакова и Р. Вильтона — Н. А. Соколова, поскольку не так давно возник прецедент. В «Комсомольской правде» за 25 ноября 1997 г. появилось «открытое письмо» Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II журналиста А. П. Мурзина «О чем рассказал перед смертью цареубийца Петр Ермаков?». В своем обращении Мурзин вслед за многими другими (в который уж раз!) ставил под сомнение принадлежность Царской Семье и близким ей лицам найденных останков под Екатеринбургом, предлагая упокоить их лишь как предполагаемые. Мурзин утверждает, будто Ермаков за два месяца до смерти, в марте 1952 г., заявил ему, студенту, что в 1918 г. он трупы уничтожил, захоронения в Поросенковом логу, где обнаружены останки, не производилось, а по отступлении белых «летом, ближе к осени» там было Юровским имитировано чье-то захоронение и вместо имевшегося прежде и сфотографированного «моста» сделан совершенно новый. Утверждая, что снимок Вильтона-Соколова относится к весне 1919 г., а снимок Ермакова будто бы сделан Юровским где-то в августе или сентябре того же года, причем пользуясь некачественными копиями, особенно с первого, Мурзин и пытается убедить Патриарха и читателей, что с помощью умирающего Ермакова давно овладел тайной и знает, что останки Царской Семьи не найдены и найдены быть не могут.
Ручаемся, что читатель имеет дело с совершенно безответственным и недостоверным выступлением в центральной печати. Снимок Вильтона-Соколова действительно сделан в 1919 г., во время осмотра следственной группой рудника и его окрестностей 125. Этот участок дороги на фотографии выглядит таким, как и должно, поскольку в то время был заброшен, как непроезжий. Ненаезженными, грубо наброшенными смотрятся и шпалы над захоронением. Снимок же с Ермаковым сделан много позднее, не в 1919-м и даже не в 1920-м, а спустя еще 2-3 года. Участок дороги уже налажен, и видно, что им регулярно пользуются. «Мост» наезжен, выровнялся, порос травой. Лес, кустарники сильно разрослись. При тщательном рассмотрении снимков видно, что настил тот же: столько же шпал, те же самые из них выступают вправо или влево. Главное же в том, что Ермакова до конца 1919 г. вообще не было в Екатеринбурге, он лечился в госпитале в Ярославле, приехав к январю 1920 г. домой на короткое время, вновь выехал на запад, на фронт и долго не возвращался 126. Тем временем в 1920 г. навсегда уехал в Москву Юровский, давно забросивший ремесло фотографа. Так что ни летом 1919 г., ни даже летом 1920 г. встретиться и фотографироваться они не могли. К тому же с 1918 г. их отношения стали, мягко говоря, натянутыми, отнюдь не доверительными. И еще: Ермаков с 1919-1920 гг. служил в Красной армии, на значительных командно-комиссарских должностях. Тогда уже была утвержденная военная униформа: защитного цвета гимнастерка со стоячим воротником, с большими нашивками на рукавах (звезды, прочие знаки должностного отличия), портупея. На снимках гимнастерка или френч должны выглядеть светлыми. Ермаков же на снимке — в темной гимнастерке, причем с отложным воротником, без каких-либо нашивок на рукавах и без портупеи. С 1921-1922 гг. он уже не в армии, а в милиции и должен был сниматься как раз в темной (темно-синей) гимнастерке с отложным воротником, и т.д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: