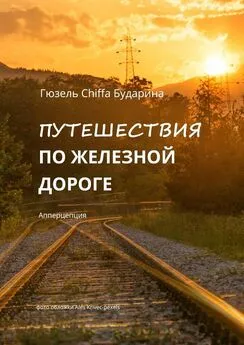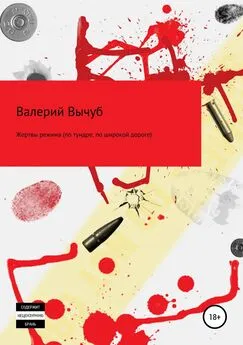Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Название:По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-230-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! краткое содержание
Так, в книге дана подробная история побегов из мест заключения — от дореволюционной каторги до ГУЛАГа; описаны особенности устройства тюрем в царской и советской России; подробно разобраны детали «блатной моды», повлиявшей и на моду «гражданскую». Расшифровка выражения «арапа заправлять» свяжет, казалось бы, несовместимые криминальные «специальности» фальшивомонетчика и карточного шулера, а с милым словом «медвежонок» станет ассоциироваться не только сын или дочь медведя, но и массивный банковский сейф…
По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Далее… Далее предоставляю судить читателю:
«Рядом лежала большая ветка сосны. Порубив её ножом на куски, сложил колодцем на разгорающийся костер. Потом, отрезав большой кусок мяса от Юркиной ягодицы, насадил его на лезвие, которое пристроил над костром с помощью двух обломков веточки, и принялся медленно поворачивать импровизированный шампур.
Никогда мне не забыть вкус человечьего мяса. Сладковато-приторное, жестковато-вязкое.
Насильно запихивая себе в рот подгоревшие куски (есть не хотелось уже очень давно) и ежесекундно ожидая заворота кишок, я с жутким отвращением поедал Юркино тело.
Трое суток провалялся я на этом “лобном” месте. Интуитивно просыпаясь, подползал к большой луже, напивался вдоволь, раздувал почти потухший костер, съедал кусочек мяса и вновь забывался в тяжёлом сне. С желудком творилось что-то невообразимое. Но стали прибавляться силы. На четвертый день смог наконец встать. Срезав с ноги остатки мяса и уложив его вместе с остальными вещами в сильно отощавшую наволочку, я тронулся в путь».
Особо впечатлительным читателям хочу сказать: достоверность этого чтива вызывает огромные сомнения. Не только из-за добродетельных волков: на протяжении всей книги Сечкина встречается столько несуразностей, несоответствий, нестыковок, что за её документальность ручаться нельзя. Скорее, она похожа на уголовные байки и «романы», где действительные события причудливо переплетаются с самой фантастической, нелепой, несусветной выдумкой и больной фантазией.
«Кто на смерть смотрит прямо, того пулей не взять»
Повторимся: в песне «По тундре» обошлось без «коровы». А могло и не обойтись… Но опасностей и без того хватало. После обзора разнообразных гулаговских ужасов теперь для нас более ясны слова —
Мы бежали с тобою, опасаясь погони,
Опасаясь тревоги, громких криков солдат.
То есть с погоней и солдатами и так предельно ясно, равно как и с вохрой, которая всё-таки настигла беглецов (в иных вариантах солдаты отсутствуют, а беглые зэки опасаются громких криков «Назад!»). А вот насчёт тревоги… Хотя из контекста понятно, что речь идёт о сигнале, а не о душевном состоянии, для тревоги у двух приятелей, как мы выяснили, были и другие поводы. Один из главных — враждебное отношение к побегушникам со стороны окружающего мира, чужого и чуждого. Беглецы заранее были настроены крайне агрессивно по отношению к окрестным обитателям, которые охотились на них, как на пушного зверя, — равно как и к геологам: те тоже чаще всего («как и все советские люди») считали своим долгом сообщить властям о беглых преступниках. Беглецы, разумеется, с членами экспедиций тоже не церемонились.
Постепенно побеги становились всё более отчаянными и кровавыми. Так, рассказывая о подготовке колымского побега в 1953 году, Анатолий Жигулин пояснял читателям, что для подобного предприятия обязательно необходимо было оружие: «Винтовка предпочтительнее для охоты на зверя, автомат — для защиты от солдат и местных охотников, которые, польстившись на щедрые дары Дальстроя: деньги, оружие, порох, дробь, спирт, продукты, — при случае ловили беглецов».
Именно о таком побеге рассказано в песне «По тундре». Правда, отчаянной парочке зэков удалось раздобыть лишь наган (или наганы: в разных версиях строка об оружии звучит по-разному: «на дуло нагана» или «на дула наганов»). Хотя в ряде вариантов указано, что речь идёт именно об оружии преследователей —
Нас уже не догонит пистолета разряд
или
Нас уже не догонит револьверный заряд, —
всё же и сочинители, и многочисленные исполнители песни отдавали себе отчёт, что вохровцы, которые гнались за своими жертвами, уж точно были вооружены солиднее. Потому всё-таки куда больше других вариантов:
Вохра нас окружила, карабины нам в лица…
Вохра нас окружила, слышен хруст под ногою.
Винторезы наставив, «Руки в гору!» — кричит.
Лай овчарок всё ближе, автоматы стучат…
А то, что и побегушники уж точно имели на руках «стволы», следует хотя бы из указания, что «окруженье пробито» — именно «пробито», то есть без боя не обошлось.
И вот теперь мы переходим к обзору «боестолкновений» между беглецами и их преследователями.
Довоенный ГУЛАГ вооружённых побегов практически не знал. Опять-таки и из этого правила существовали отдельные исключения. Об одном из них рассказал Олег Волков в мемуарах «Погружение во тьму». Эпизод относится к 1928 году, место действия — Кемский пересыльный пункт:
«Как-то ночью после отбоя раздалась стрельба. С вышек беспорядочно палили. У одной из них сбежавшиеся стрелки разглядывали зарезанного часового. Как ухитрился чеченец проползти под проволокой? Кошкой подобраться к караульному, спустившемуся с вышки поразмять ноги или за нуждой, и вонзить в него самодельную железку — так, что тот рта не успел раскрыть? Ведь было светло, как днём.
Со смельчаком ушли ещё двое. Беглецов заметили, когда они уже порядочно удалились от зоны. Стреляли по ним безуспешно; прячась за камни, перебегая, ползя юрко и стремительно, они достигли опушки леса. Преследовать их не рискнули — чеченцы прихватили винтовку и подсумок убитого.
Тело лежало под вышкой, в нескольких шагах от зоны. Вокруг грудились люди: зэки по одну сторону проволоки, обескураженные “попки” — по другую. У заключённых в то утро был более бодрый вид. Зато охрана — в отместку — не знала удержу…»
Чеченцев поймать так и не удалось. Однако подобные случаи можно пересчитать по пальцам. Разве что во время коллективизации бегали из Сибири ссыльные переселенцы-селяне, нередко — раздобыв оружие или откопав когда-то припрятанное в родных местах. Шолохов в «Поднятой целине» создал яркий образ такого беглеца — Тимофея Рваного, который вернулся тайно в Гремячий Лог и пытался застрелить Макара Нагульнова. Однако это — тема совершенно другая, не гулаговская.
А вот в местах лишения свободы до войны условия для вооружённых побегов ещё не созрели. Блатные предпочитали «рвать когти» по-тихому, тем более сроки за побег добавлялись небольшие. Убийство же охранника — это гарантированная «вышка». Кому оно надо?
«Политики» и вовсе не мыслили никаких побегов с перестрелкой. В основе своей это была забитая, затравленная масса, которую прессовали со всех сторон. Большинство «контриков» пытались доказать свою невиновность и лояльность великим идеям коммунизма.
К тому же в конце 1930-х, в годы Большого террора, жуткие чистки прошли и по лагерям. Они коснулись далеко не только «политиков». Физически уничтожались и профессиональные уголовники: развернулась жестокая борьба с лагерным бандитизмом. Рассказы о «гаранинских» и «кашкетинских» расстрелах передавались из уст в уста поколениями зэков. Так что о побегах с оружием не могло быть и речи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: