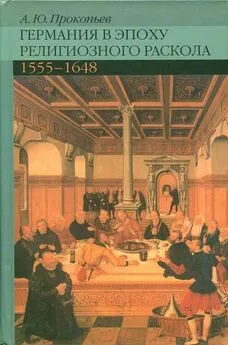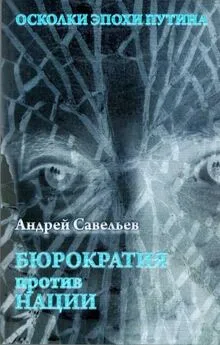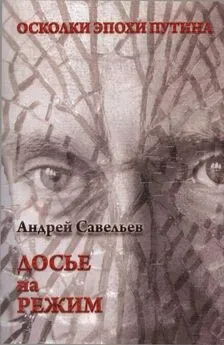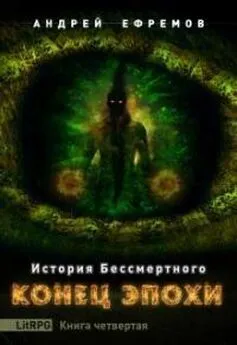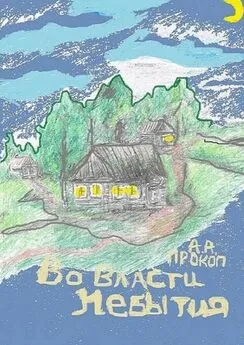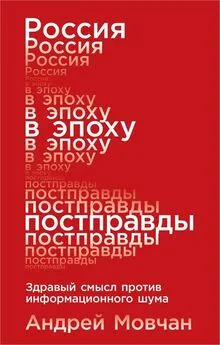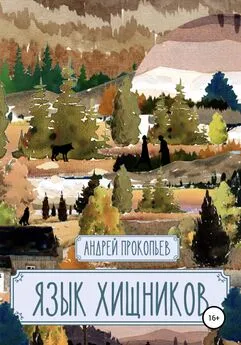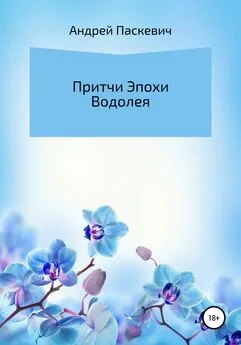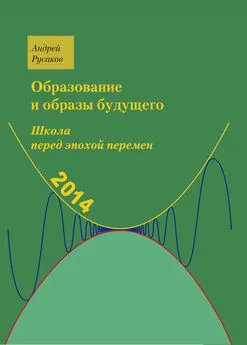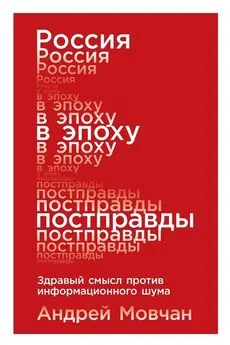Андрей Прокопьев - Германия в эпоху религиозного раскола. 1555–1648
- Название:Германия в эпоху религиозного раскола. 1555–1648
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Санкт-Петербургского государственного университета
- Год:2008
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-288-04779-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Прокопьев - Германия в эпоху религиозного раскола. 1555–1648 краткое содержание
Используя огромный фонд источников, автор создает масштабную панораму исторической эпохи. В центре внимания оказываются яркие представители отдельных сословий: императоры, имперские духовные и светские князья, низшее дворянство, горожане и крестьянство. Дается глубокий анализ формирования и развития сословного общества Германии под воздействием всеобъемлющих процессов конфессионализации, когда в условиях становления новых протестантских вероисповеданий, лютеранства и кальвинизма, укрепления обновленной католической церкви светская половина общества перестраивала свой привычный уклад жизни, одновременно влияя и на новые церковные институты.
Книга адресована специалистам и всем любителям немецкой и всеобщей истории и может служить пособием для студентов, избравших своей специальностью историю Германии и Европы.
Германия в эпоху религиозного раскола. 1555–1648 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тезис Н. Элиаса, однако, стал встречать со временем все большие возражения среди историков, особенно регионалистов, которые отмечают однобокость, достаточный примитивизм его схемы. Наиболее последовательным оппонентом Н. Элиаса стал Алоиз Винтерлинг , издавший в 1986 г. свою диссертацию о дворе архиепископов Кёльна. В ней автор подчеркивает значение двора как системы межсословного компромисса, социальной стабилизации, в рамках которой обретали устойчивую опору институты власти и мир ее подданных. Для конфессиональной эпохи мы, в свою очередь, отметили бы значение патриархальных традиций, особенно развитых у лютеранских князей, для которых двор был ближним пространством собственного Дома. Как часть целого Дома двор был лишен программного, институционного смысла. Он являл собой огромный приют под покровом княжеской милости и щедрости, где реализовывались социальные гарантии дворянства и бюргерской элиты, отнюдь не в столь инструментализированной форме, как полагает А. Винтерлинг. Новейший обобщающий очерк Райнера Мюллера скорее констатирует все еще не до конца решенную проблему сравнительных параллелей между почти 300 княжескими дворами Империи раннего Нового времени, нежели дает однозначное решение поставленных проблем. Кроме того, большинство уже имеющихся наработок все-таки посвящены различным придворным парадигмам в гораздо более широком промежутке времени, чем собственно столетие 1550–1650 гг.
В последние годы усилиями академической комиссии по изучению резиденций во главе с Вернером Паравичини проделана большая работа в области исследования двора и отдельных сфер придворной жизни Германии раннего нового времени. В рамках ее работы были сформулированы и новые подходы к толкованию феномена придворных обществ, в частности Яном Хиршбигелем , взгляды которого основываются на социологических постулатах Т. Парсонса и предполагают анализ взаимодействия двора с окружающей социальной средой. Новые версии, впрочем, соседствуют с обилием весьма разного и подчас противоречивого уникального материала источников и нуждаются в дальнейшей апробации.
В территориальной системе управления большинство немецких княжеств тяготело к традиционной схеме, унаследованной от средневековья, центрами которой были руководители местных округов — амтманы и фогты . Наблюдались перемены количественного порядка, расширялись штаты помощников, сами должности, обладателями которых выступали зачастую представители местной знати, превращались в своеобразные синекуры, позволявшие считать их скорее почетными и доходными, но при том возрастал уровень профессионализации и бюрократизации вспомогательного аппарата. Административное делопроизводство реально вели опытные секретари, большей частью — выходцы из бюргерской среды с дипломами юристов. Интенсификация административной жизни требовала высокой компетенции от местных начальников, поэтому даже дворяне в чинах амтманов или фогтов не были избавлены от предварительной специальной подготовки. Кузнецами учености в таких условиях становились либо собственные, либо близлежащие авторитетные университеты , заботливо опекавшиеся княжеской властью, видевшей в профессуре и выпускниках главную техническую опору своей администрации. Принципы местного управления существенно не изменились с позднего средневековья, но менялись его качественные и количественные показатели.
Некоторые перемены коснулись и военной организации , когда под воздействием нидерландской войны в западных землях, особенно во владениях графов Нассау, стали формироваться регулярные армии нового типа. Этому содействовала кальвинистская доктрина с ее жесткой правительственной организацией, равно как стоическая философия античности, поклонниками которой выступали нассауские графы. Муштра, обезличивание солдата и офицера, превращавшихся из самостоятельных звеньев иерархии в простые боевые единицы, — главные образующие этой новой военной доктрины. Несомненно, мы наблюдаем в данном случае настоящий прорыв в военном деле, завершившийся созданием знаменитой линейной тактики, но он лишь весьма относительно затронул остальные немецкие земли, где, особенно в лютеранских владениях, господствовали старые воззрения и где повседневная защита возлагалась на дворянское ополчение, земский ландвер и наемный корпус офицеров. Только в случае большой войны предусматривался найм на службу генералитета, офицерского корпуса и развертывание из числа наемников рот, эскадронов и полков. Лишь в начале XVII вв. некоторые крупные князья, как Максимилиан Баварский и Иоганн Георг Саксонский, позволили себе организовать некое подобие регулярных формирований, однако в весьма ограниченных пределах, имевших мало общего с теоретически хорошо фундированной и на практике разветвленной системой военного дела нассауских графов. Принципиальным оставалось различие между подходом, основанным на постепенном размежевании «гражданских» и «военных» сфер общественной жизни, что логично вытекало из преобразований в Нидерландах, и ленно-правовой доктриной, предполагавшей не «общегражданский», внесословный подход, а иерархичный, основанный на статусе воюющих лиц.
Впрочем, эффективность всех этих долговременных процессов, протекавших в недрах судопроизводства, финансов и местного управления, не могла изменить базовую основу территориальной власти князей — ленное право, связывавшее князя и всех его подданных в единую пирамиду, на ступенях которой все — от рыцарей, медиатизированных графов, баронов и до городских общин — выступали вассалами, сословиями, «чинами земли». Поэтому и в конце реформационного столетия проблема отношений князей и сословий оставалась во многом центральной для судеб территориальных княжеств. Конфессиональная эпоха, как и предшествовавшее столетие, знала различные формы сословно-княжеского диалога. Главным местом его проведения был ландтаг . Сила сословий, превалирование тех или иных курий на ландтагах зависели от исторических условий каждого региона. В значительной части западных и центрально-немецких владений господствующей формой было трехкамерное сословное представительство, предполагавшее наличие трех относительно цельных и многочисленных курий: духовенства, рыцарства и городских общин (с многочисленными отклонениями в виде присутствия относительно малых и невлиятельных фракций баронов, «господ» или графов, принципиально не менявших общую схему). Классическими примерами здесь были Бавария, Пфальц, Гессен, брауншвейгские земли и Саксонское курфюршество. Другой формой был « двухкамерный » ландтаг, где руководящее значение имели две курии, представленные духовенством и дворянством или дворянством и городскими общинами, причем дворянство было весьма многочисленным и дробилось на две или несколько фракций: собственно рыцарство, «господа», бывшие в ленном подданстве князю, имперские бароны и имперские графы, также по части своих сеньорий бывшие ленниками князей. Подобное представительство получило развитие преимущественно в юго-восточных и южных землях Империи, особенно в Австрии и Богемии, где рыцарство и «господа» исторически образовывали самую мощную и влиятельную сословную группу. В Вюртемберге и Бадене, напротив, городские общины могли весьма ощутимо соперничать с рыцарством по степени влияния на ландтаге. Духовные княжества образовывали достаточно специфичную модель: традиционно ведущей силой здесь наряду с собранием духовных общин был соборный капитул — главный коллегиальный правительственный орган, избиравший епископов и архиепископов, представленный, как правило, самыми влиятельными дворянскими фамилиями. Хотя тридентские реформы резко ограничили автономию капитула, однако на деле усиление епископских полномочий шло во многих княжествах очень медленно. Капитул, образовывая фактически ядро ландтага, часто находил общий язык со светской дворянской курией и успешно блокировал инициативы своих патронов. Весьма показательный пример тому являло епископство Аугсбург, где в 1566 г. капитул вынудил архиепископа Отто Трухзеса практически передать под собственный контроль епископские финансы. Были примеры и иного рода: в 1606 г. соборный капитул архиепископства Зальцбург был вынужден практически капитулировать под давлением княжеской власти. В том и другом случае, впрочем, капитул выступал настоящим форумом местного дворянства, своеобразной духовной фракцией дворянского сословия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: