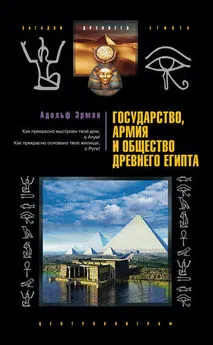Дмитрий Прусаков - Раннее государство в Древнем Египте
- Название:Раннее государство в Древнем Египте
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Институт востоковедения РАН
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-89282-163-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Прусаков - Раннее государство в Древнем Египте краткое содержание
Книга предназначена для специалистов по истории Древнего мира.
Раннее государство в Древнем Египте - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вместе с тем меньшие братья- dt , будучи главными претендентами на ключевые административно-хозяйственные посты во владениях вельмож, могли привлекаться и к государственной службе [ Перепелкин 1966 ], что, наряду со склонностью фараонов брать в жены дочерей номархов, говорит о наличии в Египте Старого царства тенденции к сближению и даже слиянию Большого Дома с частью номовой знати. Так, например, женитьбу царей на провинциальных аристократках нецарского происхождения прямо объясняли политическими мотивами: стремлением Мемфиса заручиться поддержкой влиятельных областных элит [ Савельева 1992 ].
С другой стороны, частные хозяйства сановников не производят впечатления "домов", готовых раствориться в государственном секторе, отказавшись от своего традиционного уклада и презрев свои кровные интересы. Вельможеский лом- dt со всем его достоянием, включая братьев (сестер)- dt и детей (сыновей, дочерей)- dt , управлявшийся ближайшими родственниками домовладыки, представляется чем-то вроде целостного, неделимого семейно-хозяйственного организма с отношениями собственности, которые неизмеримы современными общественно-экономическими категориями. Эта своеобразная большесемейная община целиком, с людьми и имуществом, принадлежала "плоти" ее главы — точно так же, как весь Египет с его населением, в идеале, относился к "плоти" фараона, порой использовавшего для обозначения своей собственности и "вельможеское" понятие dt (причем, не исключено, нередко с целью подчеркнуть различие между личным царским хозяйством и собственностью сановников) [ Перепелкин 1966 ] (царская dt отмечена и для раннего Среднего царства [ Берлев 1972 ]). В итоге создается впечатление, что категория dt не являлась четким критерием, который позволял безошибочно отличать частные владения от государственных, а скорее представляла собой некую универсальную категорию владения, не окрашенную социальными тонами и в каком-то смысле уравнивавшую состоятельных вельмож (прежде всего номархов) с фараоном.
Дополнительное сходство вельможеским и царским владениям сообщает тот факт, что "дом собственный" часто обозначался как "оба дома", под которыми, очевидно, подразумевались нижнеегипетские и верхнеегипетские "филиалы" личных домохозяйств знати [ Перепелкин 1966 ] — подобно тому, как Египет в качестве фараонова "домена" именовался "Обе Земли".
Приведенные данные вновь заставляют усомниться в распространенном тезисе о всепроникающем социально-экономическом влиянии государства староегипетских фараонов и одинаково деспотическом характере их власти во всех регионах страны. Не оказывается ли этот тезис на поверку не более чем априорным положением, подобно малообоснованному утверждению о существовании в староцарском Египте единой ирригационной сети, управлявшейся в централизованном порядке?
Староегипетские номархи — наследники независимых вождей архаического периода, сохранив при объединении страны важнейшие властные прерогативы, имели тем больше шансов успешно преодолеть политические и экономические последствия государственной дезинтеграции по завершении эпохи Старого царства.
Социоантропологический подход к староегипетской истории
В социоантропологическом ракурсе вырисовывается качественно новая картина эволюции египетского государства в III тыс. до н. э., альтернативная традиционной исторической схеме последовательного усиления, расцвета и (при поздней V–VI династии) упадка деспотической централизованной власти в долине и дельте Нила. Напомним, что в обоснование такой реконструкции, помимо указаний на известные изменения размеров и добротности сооружения фараоновых пирамид [ O'Connor 1974 ], приводился тот факт, что гробницы номархов, при IV династии размещавшиеся близ столицы — Мемфиса, неподалеку от царского некрополя, во второй половине Старого царства переместились на территорию номов [ Fischer 1968 ]. В этом усматривали признак ослабления мемфисского абсолютизма и роста самостоятельности областной знати, якобы стремившейся вырваться из-под тягостной опеки династического клана и утвердить свой авторитет на местах [ Janssen 1978 ].
На отмеченный факт, однако, можно посмотреть и под другим углом зрения. Мы не убеждены, что помещение номарших захоронений рядом с царскими надгробиями нужно расценивать непременно как символ полной зависимости областеначальников от Большого Дома, а, скажем, не как высшую почесть, оказываемую фараонами номархам. Во всяком случае, захоронение влиятельных домоправителей — ближайших сподвижников вельмож — подле хозяйских гробниц прямо поддается такому толкованию [ Перепелкин 1988б ]. Вспомним в связи с этим, что отлучение должностных лиц от жреческой службы при пирамиде вследствие невыполнения ими царскцх указов расценивалось как серьезная немилость [ Urk. I , 283; 288]. Подобная трактовка с поправкой на архаический "кодекс" дарообмена позволила бы объяснить соседство крупнейшего столичного некрополя староегипетской областной знати именно с величайшими пирамидами Гизы не хуже, чем концепция деспотического государства, подавившего всю страну — а в чем-то, быть может, даже и лучше.
Дело в том, что, помимо сказов Геродота [II, 124–128] (надежность которых подчас крайне сомнительна), иных источников информации о централизованном и исключительно насильственном принуждении населения Египта к строительству (Великих) пирамид не существует. Соответственно, нет и уверенности в том, что все обстояло в точности так, как писал Геродот, а не как-то иначе. На наш взгляд, гипотеза о реальности конструктивного компромисса между фараонами и региональной знатью на основе механизма "дар-отдар" с точки зрения восстановления облика староегипетской государственности предпочтительнее недокументированной и малоправдоподобной версии тиранического господства Мемфиса над всем Египтом. Полагаем, что могущество IV династии, отразившееся в первую очередь в грандиозных архитектурных достижениях, в значительной мере зиждилось как раз на такого рода компромиссе, в рамках которого сильные независимые номархи в обмен на признание Большим Домом их высокого социального статуса (гробницы под Мемфисом) оказывали ему надлежащие материальные и трудовые (возведение пирамид), а также ритуальные (обожествление царей, в т. ч. отправление их культа на местах) услуги. При таком подходе упадок Старого царства было бы логичнее связывать не с ослаблением деспотической власти фараонов и крахом централизованного государства, а с деформациями в системе выполнения взаимообязательств "нутра" и владетельных вельмож и, в конечном итоге, по-видимому, в целом с деградацией отношений дарообмена в древнеегипетском обществе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: