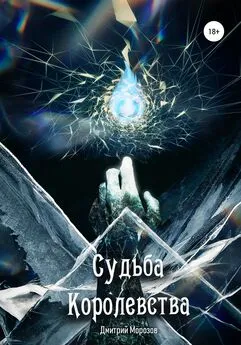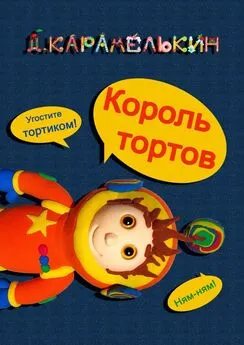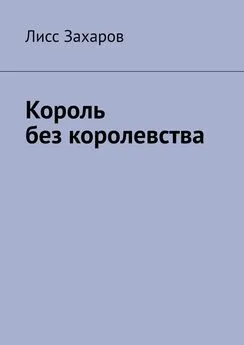Дмитрий Бовыкин - Король без королевства. Людовик XVIII и французские роялисты в 1794 - 1799 гг.
- Название:Король без королевства. Людовик XVIII и французские роялисты в 1794 - 1799 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РОССПЭН
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8243-2086-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Бовыкин - Король без королевства. Людовик XVIII и французские роялисты в 1794 - 1799 гг. краткое содержание
Король без королевства. Людовик XVIII и французские роялисты в 1794 - 1799 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Оба эти решения — провозглашение регента и наместника королевства — требуют отдельного комментария.
Ситуация с правилами назначения регента была во Франции довольно запутанной. Прежде всего, формально под вопросом оказывалась сама необходимость такого поста. Хотя с 1374 г. совершеннолетие монарха наступало, «когда он достигнет четырнадцатого года своей жизни» {176} 176 Что позволяло трактовать эту фразу двояко: в 13 или 14 лет. В итоге впоследствии этот эдикт многократно оспаривался, пока в конце концов монарха не стали считать совершеннолетним в 13 лет.
, в соответствии с эдиктами 1403 и 1407 гг. король во Франции всегда считался совершеннолетним, что, собственно, позволяло ему стать сувереном в любом возрасте. Кроме того, не существовало никаких писаных правил в отношении регента. Если умирающий король оставлял распоряжения на сей счёт (а он имел полное право это сделать), после его смерти их было легко оспорить; если не оставлял, вокруг регентства нередко разворачивалась борьба внутри самой королевской семьи. Прецедент можно было подобрать на любой вкус: по завещанию Людовика VIII в 1226 г. регентшей стала его жена, Бланка Кастильская; в 1380 г. регентом ненадолго стал брат покойного короля Людовик Анжуйский; в 1484 г. в соответствии с желанием покойного Людовика XI регентшей сделалась его дочь Анна. Помимо этого, ещё в 1484 г. на Генеральных штатах в пору малолетства короля и вовсе была выдвинута идея о том, что именно народ устами Генеральных штатов должен принимать решение о том, как будет организовано управление страной. Если добавить к этому, что ряд монархов (в частности, Людовик XIII и Людовик XIV) оставляли распоряжения о создании регентских советов, расписывая их состав и полномочия, что de jure было нарушением и фундаментальных законов, и традиций, поскольку посягало на полноту суверенитета преемников, то сложность проблемы можно оценить в полной мере.
В общем и целом к Новому времени все сходились на том, что регентом должна стать либо мать короля, либо его старший родственник мужского пола, поскольку оба эти варианта обеспечивали минимум проблем до наступления того момента, когда король сможет реально руководить страной. Однако ближайшие к концу XVIII в. прецеденты и здесь были противоречивы: при малолетнем Людовике XIV регентшей была провозглашена его мать, Анна Австрийская, при малолетнем Людовике XV полномочия регента были вручены племяннику покойного короля, герцогу Орлеанскому. Впрочем, поскольку до Анны Австрийской регентшами становились и Екатерина, и Мария Медичи, а Людовик XV стал сиротой в очень раннем возрасте, создавалось впечатление, что права королевы-матери на регентство имеют всё же несколько больше оснований.
Другое дело, что в ситуации, сложившейся зимой 1793 г., по сути, имел место клубок совершенно иных проблем. С одной стороны, в свете напряжённых отношений между королевской семьёй и братьями короля было очевидно, что Мария-Антуанетта продолжит политическую линию Людовика XVI куда лучше, чем Месье. Однако королева могла быть регентшей лишь формально, поскольку находилась в тюрьме. С другой стороны, Людовик XVI подписал Конституцию 1791 года, по которой регентом может быть только мужчина и уроженец Франции, и тем самым de facto лишил жену прав на регентство. Но по той же самой Конституции регента должны были избирать. С третьей стороны, провозглашение регентом Марии-Антуанетты сразу превращало её в политическую фигуру, что едва ли увеличивало её шансы остаться в живых.
Что же касается должности наместника королевства, то она в системе управления Франции была совершенно особой. Он обладал полномочиями, весьма схожими с полномочиями самого монарха и получал право командовать королевскими армиями (то есть фактически становился коннетаблем — до той поры, пока этот пост вообще существовал). Наместник обычно назначался лишь в исключительных, чрезвычайных обстоятельствах, для преодоления кризиса или же в случае слабости власти самого государя. Так, например, Антуан де Бурбон, уступив Екатерине Медичи титул регента, получил в ответ должность королевского наместника. Аналогичным образом Людовик XIII, предвидя, что регентом станет Анна Австрийская, сделал своего брата Гастона Орлеанского королевским наместником. Впрочем, насколько мне известно, это назначение графа д’Артуа никем не оспаривалось, и он сохранит за собой эту должность до самого начала Реставрации, до 1814 г.
Из Хамма Месье 19 ноября 1793 г. направился в Ливорно в надежде сесть на корабль и переправиться в Тулон, однако восстание было подавлено раньше, чем граф Прованский смог оказаться на французской земле. Не исключал он и возможности отправиться в Испанию, чтобы примкнуть к армии в Руссильоне. Вместо этого граф Прованский 28 декабря 1793 г. прибыл в Турин, к своему тестю, но, убедившись, что его не рады видеть, 24 мая 1794 г. выехал в Верону, которая тогда принадлежала Венецианской республике. Венеция оказалась той страной, которая согласилась его приютить, хотя и полуофициально, поскольку титул регента европейскими государствами признан не был.
Таким образом, к моменту падения диктатуры монтаньяров роялистское движение оказалось лишено лидера: революционеры не выпускали из рук Людовика XVII, европейские державы не признавали полномочия принцев и вели свою игру. Сторонникам монархии оставалось лишь надеяться на успехи держав антифранцузской коалиции: с восстаниями внутри страны Конвенту по большей части удалось справиться, была на время замирена даже Вандея. Однако перелом на фронтах и успехи республиканских войск, закреплённые к весне 1794 г., делали надежды на восстановление королевской власти весьма призрачными.
ГЛАВА 2
«ЧЁРНАЯ ЛЕГЕНДА» ГРАФА ПРОВАНСКОГО
Ряд действий и политических деклараций графа Прованского (а затем и Людовика XVIII) будет сложно понять, если не учитывать ту репутацию, которая сложилась у него в первые десятилетия жизни.
Ранее уже шла речь о том, какое большое внимание он уделял саморепрезентациям. Многие из них оказывались весьма успешными. Однако были и исключения: некоторые черты характера принца или эпизоды из его биографии воспринимались современниками негативно и портили его репутацию.
Одной из таких черт было стремление графа Прованского при любых условиях сохранять невозмутимость, не демонстрировать своих чувств окружающим, не нервничать и не суетиться перед лицом быстро меняющихся обстоятельств. Так, после получения известия о первой беременности Марии-Антуанетты, лишавшей его надежд получить престол, он делился с королём Швеции:
Я быстро овладел внешними проявлениями своих чувств и неизменно держу себя, как и прежде. Я не проявляю ни радости, которая могла бы показаться фальшивой, да и была бы ею, поскольку, говоря откровенно, и вы легко можете в это поверить, отнюдь её не чувствую, ни грусти, которую могли бы приписать малодушию {177} 177 Geffroy Au. Op. cit. Vol. 1. Р. 295.
.
Интервал:
Закладка:
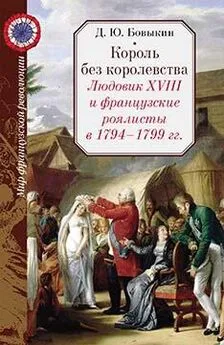

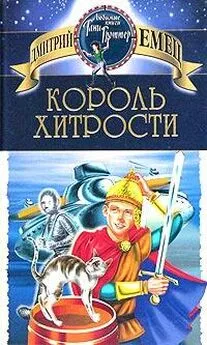
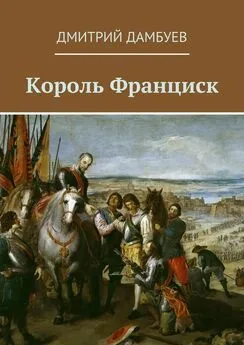
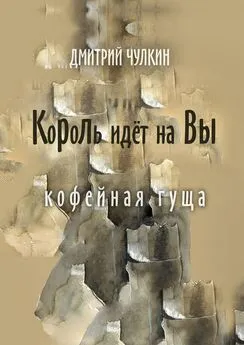
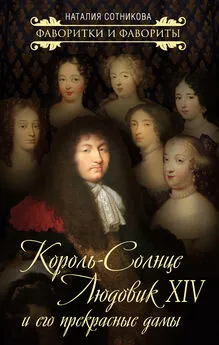
![Ольга Кузьмина - Король без королевства [СИ]](/books/1091253/olga-kuzmina-korol-bez-korolevstva-si.webp)