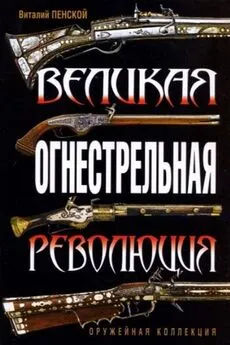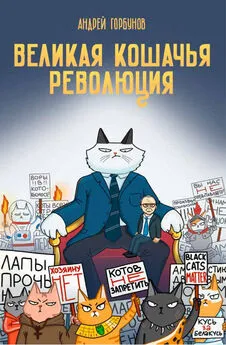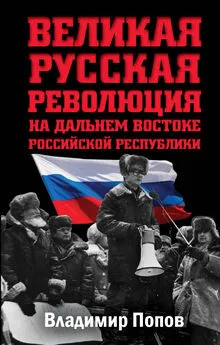Михаил Барг - Великая английская революция в портретах ее деятелей
- Название:Великая английская революция в портретах ее деятелей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1991
- Город:М.
- ISBN:5-244-00418-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Барг - Великая английская революция в портретах ее деятелей краткое содержание
Великая английская революция в портретах ее деятелей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Известный американский специалист в данной области П. Загорин, следовавший в русле этой концепции, превратил противостояние «Двора» и «Страны» в сюжет своего исследования предыстории Английской революции. Было бы, разумеется, ошибочным отрицать то обстоятельство, что региональные и общенациональные интересы даже в рамках одного и того же общественного класса, в данном случае дворянства, далеко не совпадали. Сама система местного управления, отданная в руки так называемого джентри графств, немало содействовала культивированию политики партикуляризма — в понимании в этой среде не только своих интересов, но и сути общенациональных событий. Неудивительно, что пролог Английской революции выступает во многих документах эпохи конфликтом, увиденным и истолкованным именно сквозь призму этого противоречия. Однако может ли это обстоятельство служить основанием для превращения суждений современников событий в единственную путеводную нить современного научного исследования?
В целом П. Загорин принадлежит к тому направлению немарксистской историографии, которое рассматривает «Великий мятеж» середины XVII века в качестве «решающего события» в процессе становления либерального политического строя. Нужно отдать должное этому историку, признающему за событием «Великого мятежа» революционный характер и масштаб «конституционного и религиозного экспериментирования». Наконец, им признается плодотворность публичных дискуссий, «крайностей, до которых они были доведены в период уничтожения королевской власти и установления республики». Широта спектра общественных движений, включая процессы в сфере идеологии, позволяет ему в одно и то же время и признать без колебаний факт революции середины XVII века, и отрицать ее буржуазное содержание, ее социально-классовый характер.
Довольно близкой к только что изложенной является позиция американского ученого Л. Стоуна. Он также не сомневается в том, что события, заполнившие историю Англии в середине XVII века, являлись революционными по своему характеру. И хотя он подчеркивает, что многие политические перемены оказались преходящими, равно как и обусловленное революцией перемещение земельной собственности (с этой точки зрения «Англия 1660 г. едва ли отличалась от Англии 1640 г.»), тем не менее в отличие от многих восстаний, потрясших европейские страны в середине XVII века, «Великий мятеж» в Англии заслуживает определения «революция» хотя бы из-за проявившегося в этот период политического и религиозного радикализма. Однако, поскольку Стоун также не видит буржуазного характера этой революции, постольку он не может обнаружить, что же такого она совершила, что не было бы перечеркнуто реставрацией. В итоге ему остается констатировать: «Революционная природа событий 40-х годов XVII века, вероятно, более убедительно демонстрируется скорее словами, чем делами».
Поскольку Стоуну с целью охарактеризовать события в Англии 40-х годов представляется предпочтительным вместо определения «социальная революция» рассматривать их в терминах политических, интеллектуальных и даже культурологических (литературно-стилевых), он по сути растворяет свою же концепцию революции середины XVII века в длительном вековом цикле (1621–1721) повышенной «сейсмической активности» в английском обществе, в ходе которого события 40-х годов предстают лишь одним из «моментов» этого процесса, но отнюдь не решающим, истинно переломным и открывающим новую историческую эпоху. О том, что Английская революция середины XVII века в этом «вековом цикле» не рассматривается Стоуном в качестве начала нового периода в истории Англии, свидетельствует его заключение о том, что действительным водоразделом между Англией средневековой и Англией нового времени явился период между 1580 и 1620 гг. В итоге, хотя Стоун и именует события 40-х годов XVII века «революцией», истина, однако, заключается в том, что этим он скорее отдал дань традиции (восходящей к Гардинеру), нежели обосновал ее концептуально.
Пафосом «доказательства» невозможности интерпретировать революцию 40-х годов в терминах межклассового конфликта пронизана работа двух английских историков — Б. Брайтона и Д. Пеннингтона — «Члены Долгого парламента». Для подтверждения этого тезиса ими был поставлен статистический эксперимент: состав членов Долгого парламента, оказавшихся с началом гражданской войны во враждебных лагерях, был подвергнут анализу по одному и тому же «вопроснику». Следует, однако, заметить, что конечный вывод этих исследователей, гласящий, что одни и те же сословные элементы были представлены как в одном, так и в другом лагере, относится скорее к особенностям их статистики, нежели к исторической действительности. И это по той причине, что подсчетам не предшествовала сколько-нибудь глубокая проработка вопроса о специфике данных, равно как и вытекающей из нее методики подсчетов. Последняя же убеждает в том, что, если бы этот эксперимент был тесно увязан с экономическим районированием страны, с типом городских корпораций, с локальными особенностями формирования представительства в парламенте, наконец, с «деловым обликом» членов парламента (а не только с их формальной сословной принадлежностью), заключения авторов этого исследования более адекватно отразили бы отнюдь не лежащую на поверхности суть вещей.
Между тем, невзирая на очевидные методические просчеты, подрывающие познавательную ценность подобной статистики, конечные выводы Брайтона и Пеннингтона широко используются противниками концепции межклассового характера событий «Великого мятежа» в полемике с ее сторонниками.
Образцом «средней линии» в новейшей историографии рассматриваемой проблемы, т. е. позиции, еще сохраняющей в какой-то степени столь оспариваемую концепцию революции XVII века (хотя и ограничивающей ее рамками конституционной истории), может служить работа известного английского историка Дж. Эйлмера «Мятеж или революция?». На столь четко поставленный вопрос Эйлмер отвечает по принципу «и — и» — и мятеж и революция. В первом случае речь идет о событиях, имевших место между 1642 и 1646 гг., во втором — о событиях, развернувшихся в 1648–1649 гг. В первом случае речь шла о стремлении возглавившего «мятеж» Долгого парламента ввести королевскую прерогативу в четко очерченные границы. При этом, однако, имелись в виду границы, проведенные в рамках традиционной конституции наследственной монархии, во втором же случае подразумевается разрыв с этой конституцией, т. е. политический переворот, ее ниспровергший, радикально изменивший форму правления в этой стране, — провозглашение Англии республикой. Нетрудно заметить, что, ограничивая революцию середины XVII века только событиями ее кульминации, Эйлмер лишает себя возможности представить эти события как развитие единого процесса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

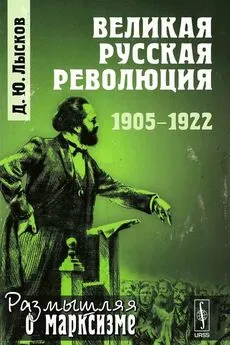
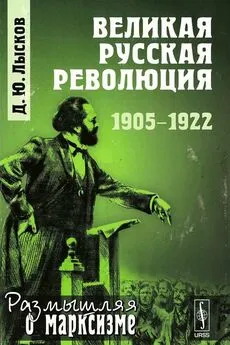

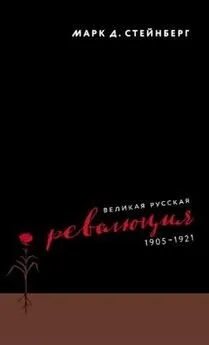
![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)