Николай Пашкин - Византия в европейской политике первой половины XV в (1402–1438)
- Название:Византия в европейской политике первой половины XV в (1402–1438)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Уральского университета
- Год:2007
- Город:Екатеринбург
- ISBN:5-7996-0265-
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Пашкин - Византия в европейской политике первой половины XV в (1402–1438) краткое содержание
Византия в европейской политике первой половины XV в (1402–1438) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В то же время папский собор в Италии соответствовал традиционным византийским представлениям о вселенском соборе, построенном на соблюдении принципов пентархии [568]. Но подобного рода представления не вписывались в идеологию и церковно-политическую практику западного конциляризма. Проходившие на Западе церковные соборы не только по своей структуре, но и по характеру своих задач могут считаться первыми представительными конгрессами европейских наций, несмотря на всю условность этого понятия применительно к XV в.
Эта новая для Запада реальность стала причиной того, что латинские и византийские интеллектуалы оказывались порой в ситуации взаимного непонимания и духовного отчуждения. Такая ситуация, например, возникла, когда в Базеле депутаты отказались признать вселенским собор, который император и папа намеревались созвать в Константинополе. Главный аргумент состоял в том, что группа прелатов во главе с одним папским легатом не может выступать от имени всего латинского Запада. В лучшем случае депутаты согласны были считать такой собор партикулярным, сохранив за собой право дальнейшей ратификации его решений в Базеле. Стороны исходили, таким образом, из разных теоретических посылок в своих представлениях о вселенском соборе. В этом смысле позиция папы была византийцам гораздо ближе, нежели позиция Базеля.
Как известно, восточная теория пентархии была оборотной стороной идеи универсальной христианской империи, так называемой идеи ойкуменизма. Реальная почва для нее в поздневизантийский период была давно утрачена. С XIV в. наблюдается кризис этой политической доктрины, проявившийся в критическом отношении к ней со стороны византийской интеллигенции [569]. Тем не менее ее идеи продолжали культивироваться официальной политической пропагандой. В истории Византии они были не просто абстрактной теоретической конструкцией, но и находили практическое выражение в международных делах.
Условия последних десятилетий византийской истории резко ограничили поле функционирования подобного рода идей, однако жесткая привязанность константинопольского патриархата к империи лишь увеличивалась по мере того, как уменьшались границы реальной власти императора и патриарха [570]. На исходе XIV столетия наблюдается своеобразная трансформация теории ойкуменизма. Знаменитое послание патриарха Антония великому князю московскому Василию I вскрывает интересную метаморфозу, которую испытали в этот период два института власти в Византии — империя и церковь. Смысл ее состоял в том, что отныне церковь должна была отстаивать светский универсализм, опираясь на тезис о неразрывном единстве и неотделимости империи от церкви [571]. Можно предположить, что в международном аспекте принцип нерасторжимости этих институтов нашел отражение в той особой ценности, которую приобрело для греков старое учение о пентархии. Пентархическая теория, с одной стороны, поддерживала престиж восточной церкви, а с другой — оправдывала подход к международным делам с позиций той же ойкуменистической доктрины, когда политический компонент ее, утверждавший универсализм власти византийского императора, не выдерживал никакой критики.
В таком случае еще более понятным становится выбор Византии в пользу политического сближения с папством. В союзе с ним, через своеобразное преломление в теории пентархии, получал хотя бы формальное признание подлинно императорский статус византийского автократора. С точки зрения греков, это было возможно только на вселенском соборе. По их мнению, Ферраро-Флорентийский собор мог таковым считаться, поскольку соответствовал древним канонам и являлся воплощением пентархии. Базельский собор, после того как открыто разорвал с папой, должен был утратить в глазах византийцев всякую легитимность. К тому же в Базеле они могли быть представлены лишь наряду с другими европейскими нациями. Это означало иные принципы международного общения и включения Византии в европейскую политику. К этому она скорее всего была не готова вследствие многовековых традиций. В свое время византийский гуманист Димитрий Кидонис призывал отказаться от чувства превосходства над другими народами. Но подобные голоса, как правило, разбивались о глухую стену византийского консерватизма.
Таким образом, выбор византийцев в пользу папы во многом был обусловлен традициями имперского политического мышления, имевшими сильную поддержку со стороны церкви. В этой связи весьма показательно и активное участие византийского патриарха в процессе переговоров с Западом. Император принимал решения, интуитивно руководствуясь при этом прагматическими соображениями, ради которых иногда было возможно поступиться традиционными принципами. Такие случаи всегда вызывали отрицательную реакцию патриарха, с которой императору подчас, приходилось считаться. Именно вопреки мнению патриарха в конце концов было дано принципиальное согласие на проведение вселенского собора на Западе, а не в Византии. Но когда в 1433 г. папский посол Гаратони, пытаясь переиграть конкурентов из Базеля, предложил обратный вариант, то получил поддержку патриарха, который лишь требовал для себя председательского места на соборе. В то же время император занял тогда весьма сдержанную позицию, высказав мнение о том, что не стоит ставить под угрозу так удачно начавшиеся переговоры с Базелем и что в интересах дела он считает для себя возможным поступиться частью своих императорских прерогатив (курсив мой. — Η. П .) [572].
Перед тем как отправиться на Запад, император еще надеялся, что Базельский собор можно будет примирить с папой. Даже после приезда в Италию, по данным Сиропула, византийского правителя терзали сомнения по поводу того, как вести себя дальше в ситуации раскола между латинянами. Патриарх же выразил однозначно негативное отношение к тем, кто считал целесообразным далее отправиться в Базель [573]. После приватных переговоров с венецианцами глава византийской церкви уведомил о решении ехать к папе кастильских представителей на Базельском соборе, сделав это раньше самого императора. Одним словом, позиция патриарха в такого рода вопросах отличалась большей прямолинейностью и была сильнее подвержена традиционным стереотипам, тогда как светская власть в лице императора могла колебаться между ними и интересами политической целесообразности. Нельзя не признать, что в конечном итоге именно первый фактор оказал решающее влияние на формирование внешнеполитического курса империи накануне униатского собора.
Заключение
Отношения Византии и Запада на протяжении исследуемого периода претерпели довольно сложную эволюцию. Можно различить несколько этапов. В течение первого периода, прошедшего после битвы при Анкаре, все политические контакты с латинским Западом, инициируемые византийской стороной, происходили исключительно на светской основе, не затрагивая церковно-религиозные аспекты. На протяжении этого времени объектами византийской внешней политики оставались отдельные европейские государства, с которыми были связаны ожидания на получение военной помощи против турок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
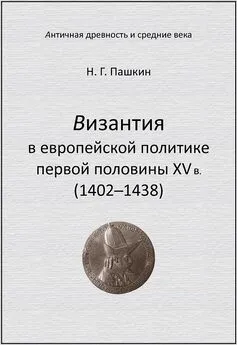





![Аркадий Бухов - Шерлок Холмс в России [Антология русской шерлокианы первой половины ХХ века. Том 3]](/books/1086208/arkadij-buhov-sherlok-holms-v-rossii-antologiya-rus.webp)


