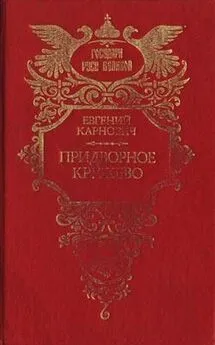Норберт Элиас - Придворное общество
- Название:Придворное общество
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Языки славянской культуры»
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-94457-034-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Норберт Элиас - Придворное общество краткое содержание
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историко-социологическими сюжетами.
На переплете: иллюстрации из книги А. Дюма «Людовик XIV и его век».
Придворное общество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Выше мы видели, как в позднюю эпоху этого режима даже люди, стоящие по своему статусу выше всех остальных король и королева, члены королевского дома с их придворными дамами и кавалерами, — до такой степени превратились в пленников своего собственного церемониала и своего этикета, что исполняли его предписания, хотя это исполнение было для них тяжким бременем, потому, что каждое действие, каждый шаг в этом этикете представляли собою известную привилегию определенных лиц или семейств по отношению к другим лицам и семействам, и потому, что любое изменение одной-единственной традиционной привилегии в пользу одних лиц вызывало недовольство, а чаще всего и активное сопротивление других привилегированных семейств и групп, которые опасались, что, затронув одну-единственную привилегию, могут затронуть в конце концов и другие, в том числе и их собственные. То, что мы могли наблюдать здесь на примере этикета и церемониала в придворных кругах, символично для отношений между привилегированными элитами ancien régime вообще. Идет ли речь о монопольном преимущественном праве на занятие определенных должностей или на иные источники дохода, или о привилегиях в ранге и престиже — все эти разнообразно иерархизированные привилегии были своего рода собственностью не только королевской семьи и ее придворных, но и, в широком смысле, «дворянства шпаги» и чиновной знати или налоговых откупщиков и финансистов, которые все, несмотря на множество перекрестных связей, сохраняли в себе признаки особых групп с различного рода привилегиями. И эту свою собственность каждая группа, каждая семья старалась сберечь и защитить от всех угроз — довольно часто даже от угрозы, исходившей от приращения привилегии других. Людовик XIV еще обладал достаточной властью, чтобы, в определенных границах, увеличивать и уменьшать частные привилегии и таким образом управлять этим многополюсным механизмом напряжений в соответствии с потребностями позиции короля. Людовик XVI, вместе со всей разветвленной династией королевского семейства, уже был пленником этого механизма напряжений и взаимозависимостей. И не он управлял им, а сам этот механизм, в известной степени, управлял королем. Он, как таинственный вечный двигатель, принуждал всех составлявших его людей отстаивать в непрестанной конкурентной борьбе друг с другом привилегии — основу своего существования — и при этом, насколько возможно, оставаться на прежнем месте. Это сцепление, этот социальный «клинч», заставлявший каждую группу топтаться на месте в постоянном страхе возможного смещения баланса власти не в ее пользу, обрекал на неудачу любую попытку сколько-нибудь радикальной реформы системы власти изнутри, если ее осуществляли люди, которые происходили из среды самих этих привилегированных элит. В попытках реформ конечно же не было недостатка, и теоретических предложений о реформах того или иного рода было вели кое множество. Но эти идеи редко опирались на реалистический анализ этой фигурации привилегированных лиц.
При этом необходимость реформы становилась тем очевиднее, чем сильнее становилось давление на привилегированные элиты со стороны непривилегированных групп. Только, чтобы правильно понять эту ситуацию, мы не должны забывать, что в обществе старого порядка, несмотря на физическую близость, например, к собственной прислуге, социальная дистанция, отделявшая привилегированные группы от тех, кого они сами называли «народом», — массы непривилегированных — была очень велика Основная масса привилегированных еще жила в относительно замкнутом мире — замкнутом тем более герметично, чем выше был их общественный ранг. Представление о том, что можно развивать свою страну, поднимать уровень жизни своего народа, было еще чуждо большинству этих люден. Оно едва ли соответствовало их ценностным установкам. Сохранение их собственного привилегированного существования еще было для них само целью. То, что происходило в массе населения страны, было абсолютно вне их поля зрения. Большинство привилегированных это не интересовало. Поэтому они едва ли предчувствовали, что накапливалось там, в этих массах. Невозможно было расколоть лед прочно застывших общественных напряжений между самими верхними слоями, и потому этот лед, в конце концов, взорвало половодье, поднявшееся снизу.
Это застывание привилегированных элит ancien régime в «клинче», в напряженном равновесии сил, которое, несмотря на все очевидные проблемы, никто не в состоянии был разрешить мирным путем, было, несомненно, одной из причин, в силу которых юридические и институциональные рамки старой системы господства были насильственно сметены революционным движением — с тем, что потом, после многих колебаний, установилась новая система с иным распределением власти и иными балансами сил. Представление о «буржуазии» как революционном, восходящем слое и дворянстве как слое, побежденном в ходе революции, несколько упрощает фактическое положение вещей — выше на это уже указывалось в общих чертах, но потребовалось бы более обстоятельное изложение, чтобы вполне осветить эту проблему. К числу привилегированных слоев, сметенных революцией, принадлежали также привилегированные буржуазные — или происходившие из среды буржуазии — слои. Может быть, правильно было бы более строго отличать сословную буржуазию, вершину которой составляла чиновная знать, от восходящей буржуазии, занятой профессиональной деятельностью.
Каким образом и почему люди связаны друг с другом и вместе образуют специфические динамические фигурации — это один из центральных, а может быть, и собственно центральный вопрос социологии. Мы сможем выйти на верный путь к ответу на этот вопрос, только если определим, как люди взаимно зависимы друг от друга. В настоящее время для систематических исследований взаимозависимостей еще в значительной степени отсутствуют модели. Не только не создано детализированных эмпирических моделей, но не ведется и систематической проверки привычных теоретических инструментов, традиционных понятий и категорий с точки зрения их пригодности для этой задачи. Еще практически не утвердилось понимание того, что многие из этих привычных теоретических инструментов были развиты при анализе совершенно определенных предметных областей — и прежде всего той области, которую называют «природой», и поэтому они вовсе не обязательно будут пригодными для анализа других предметных областей, например, той, которую мы называем «обществом» и (правомерно или неправомерно) отличаем от области «природы».
То, что подобного рода задачи не всегда отчетливо осознаются учеными, нередко приводит к своеобразной путанице в размышлениях о социальных проблемах. Целый ряд мыслительных категорий и понятий, возникших в ходе развития естествознания, а затем во многом содержательно размытых от популярного употребления, очевидным образом не очень пригодны для анализа социологических проблем. Хорошим примером такого понятия служит классическое понятие однолинейной причинности. Поэтому социологи часто позволяют себе более или менее произвольно изобретать понятия, но при этом не всегда проверяют посредством кропотливой ремесленной эмпирической работы, пригодны ли и если да, то в какой степени пригодны эти понятия на самом деле в качестве инструментов научного исследования общественных феноменов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: