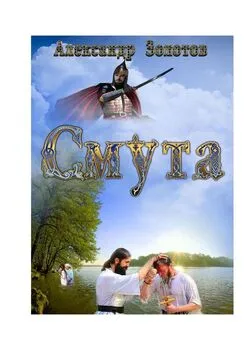Дмитрий Антонов - Смута в культуре Средневековой Руси
- Название:Смута в культуре Средневековой Руси
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Российский государственный гуманитарный университет
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7281-1066-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Антонов - Смута в культуре Средневековой Руси краткое содержание
Смута в культуре Средневековой Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
869
Смиренномудрие важно и в осуждении сторонников реформ: чем более «обличительствует» Аввакум, тем больше прибегает он после этого к самообличениям, отгораживаясь от грозящей гордыни: «Простите, барте, никонияне, что избранил вас! Живите как хочете!», «А я ничто же есмь. Рекох, и паки реку: Аз есмь человек грешник, блудник и хищник, тать и убийца, друг мытарем и грешникам, и всему человеку лицемерен окаянной» и т. п. (с. 374–375, 388–389). Сам раскол Аввакум воспринимает как Божий промысел, которому в итоге подобает радоваться: «Что, петь, зделаешь, коли Христос попустил?», «выпросил у Бога светлую Росию сатона, да же очервленит ю кровию мученическою. Добро ты, дьявол, вздумал, и нам любо — Христа ради, нашего света, пострадать!» (с. 381–382). В «Книге бесед» мысль выражена не менее красочно: «Не по што в Персы итьти пещи огненныя искать, но Бог дал дома Вавилон: в Боровске пещь халдейская, идеже мучатся святии отроцы, херувимом уподоблыиеся» (ПЛДР. XVII в. Кн. 2. С. 419. Ср.: С. 417).
870
Ср. описание призрачных видений, которыми бесы искушали Авваку ма ночью в церкви. Скачущий столик, шевелящийся в гробу покойник, летающие ризы и стихари становятся на свои места будучи осененными крестным знамением. В полном соответствии с общезначимыми для древнерусской книжности представлениями бесы пугают призраками, которые не способны навредить сами по себе: когда Аввакум «пощупал, приступая» ризы, оказалось, что «оне по-старому висят» (с. 396).
871
В то же время в сочинениях Аввакума важнейшие изменения вторглись в иную область — догматику; искаженным оказался, как известно, догмат о Святой Троице (Послание чадам церковным о дьяконе Федоре, «Книга обличений, или Евангелие вечное». См. также: Смирнов П. С . История русского раскола старообрядчества. СПб., 1895. С. 81; Зеньковский С. А. Русское старообрядчество: В 2 т. Т. 1. М., 2006. С. 261–262; Карташев А. В. Указ. соч. С. 631).
872
Ср. в Слове Кирилла Александрийского: «Терпяи со благодарением напасти, якоже исповедник венчается пред престолом Христовым… кроткий и смиренномудрый благословен есть, роптаяи и стужаяи в случающихся бедах, и находящих скорбъх, тоскоуя и хоуля, сеи беспоутием заблудился, и оум глоух имать» (Соборник из 71 слова. Л. 117).
873
См.: Крушельницкая Е. В. Автобиография и житие… С. 285–291; 323–334.
874
ПЛДР. XVII в. Кн. 2. С. 424.
875
См.: Материалы для истории раскола… Т. 7. М., 1885. С. 54.
876
Горестные слова, обращенные к Богу в момент, когда Епифаний желал, но не получил мученической смерти, комментируются следующим образом: «Простите мя, грешнаго, отцы святии и братия! Согрешил аз, окаянный» (с. 326). В автобиографической записке несмиренное обращение Епифания к Богородице после нападения беса было объяснено как произошедшее «от невежества моего, паче же от болезни…» (Материалы для истории раскола… Т. 7. С. 58–59).
877
Экскурс в дополненном и переработанном виде представляет ма териалы статьи, опубликованной в журнале «Россия XXI» (2005, № 6).
878
Лурье Я. С. Россия древняя и Россия новая. СПб., 1997. С. 16–17.
879
Там же.
880
Ср.: «Мне представляется, что постановка вопроса об особом характере мышления средневекового человека вообще неправомерна: мышление у человека во все века было в целом тем же. Менялось не мышление, а мировоззрение, политические взгляды, формы художественного видения, эстетические вкусы» (Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 68).
881
Представление о том, что «понимание невозможно», стало крайне по пулярным в конце XX в. Общая критика методологии «понимания» как особой исследовательской практики гуманитарных наук распадается на две части. Первая связана с теоретическими установками постмодернизма, принятыми философской герменевтикой (П. Рикёр, Х.-Г. Гадамер), и восходит к постхайдеггеровской эволюции феноменологии. Герменевтическая практика постмодерна основывается на представлении об изначальной многозначности высказываний, множественных смыслах символа, что соответствует общему разви тию постструктуралистической мысли. Основания для этой концепции дает помимо прочего разработка теорий Маркса, Ницше и Фрейда о «ложности» сознания (См.: Рикёр Я. Указ. соч. С. 16–17, 27). Во многих случаях подобная исследовательская практика требует освобождения от «предрассудков», связанных с представлением о том, что человеческое сознание способно продуцировать самодостаточные смыслы (Рикёр Я. Указ. соч. С. 30–31. О характерной для постмодернизма концепции «теоретического антигуманизма» см.: Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998. С. 42). Очевидно, однако, что подобный исследовательский подход (вопреки мнению его сторонников) является в большей степени идеологическим, нежели представляющим некую «истину» о культуре и человеке. Вторая часть критики связана с анализом «понимающих» методов, обоснованных в науке конца XIX — начала XX в. (в рамках неогегельянства, неокантианства, «традиционной» герменевтики). Многие из них развивались в русле акселиологического направления, предполагающего систематизацию реконструированных фактов на основании общих понятий, идеальных ценностей, неизменных психологических актов и т. д. (ср., например, у Г. Риккерта, М. Вебера). «Традиционная» герменевтика, в свою очередь, обосновала своеобразную процедуру «вчувствования» во внутренний мир автора: с ее помощью предлагалось понять человека прошлого лучше, чем он понимал себя сам (Шлейермахер, Дильтей). Подобные стратегии не раз становились предметом критики. Тем не менее проблему понимания текста через реконструкцию авторских объяснений вряд ли следует бесперспективно сводить к данным методологиям. (Ср. известную книгу Поля Вена, где на новом этапе обосновывается разделение наук на номотетические и идеографические и отрицается возможность каких-либо понимающих методов: Вен Я. Как пишут историю: Опыт эпистемологии. М., 2003. С. 195, 201–203.)
882
ПЛДР. XVII век. Кн. 1. М., 1988. С. 502–511.
883
См.: Шунков А. В. «Повесть о преставлении патриарха Иосифа» царя Алексея Михайловича как литературный памятник: Стиль повести // Традиция и литературный процесс. Новосибирск, 1999. С. 176–185. Ср. комментарии к изданию памятника С. А. Семячко (ПЛДР. XVII в. Кн. 1. С. 666).
884
См., например: Древнерусские патерики. С. 22–23, 32, 72, 76, 86–87; Молдован A. M. Указ. соч. С. 262, 318, 342; Слово о Житии великого князя Дмитрия Ивановича // БЛДР. Т. 6. С. 216; Житие Кирилла Белозерского // Там же. Т. 7. С. 190, 192; Рассказ о смерти Пафнутия Боровского // Там же. С. 278, 280, 282; Повесть о болезни и смерти Василия III // Там же. Т. 10. С. 44. Ср.: Пигин А. В. Волоколамские произведения XVI в. о смерти // Дергачевские чтения — 2000: Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Екатеринбург, 2001. С. 167–171; Он же. Видения потустороннего мира в русской рукописной книжности. СПб., 2006. С. 84–87. См. также: Панченко A. M., Успенский Б А. Указ. соч. С. 69.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: