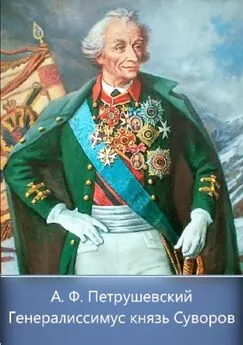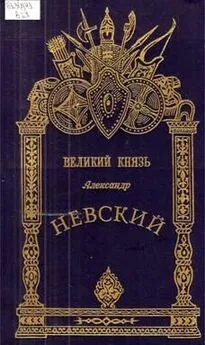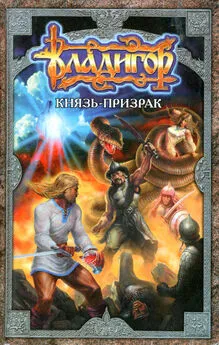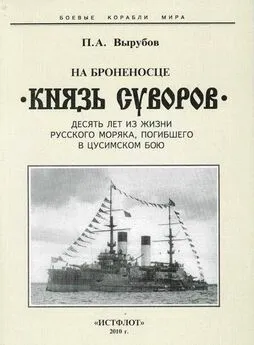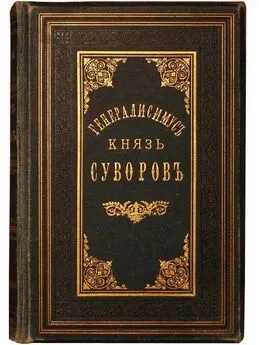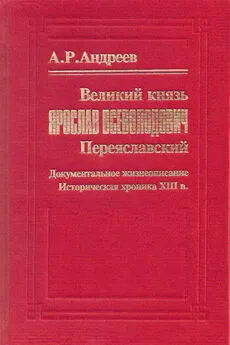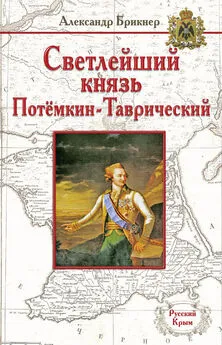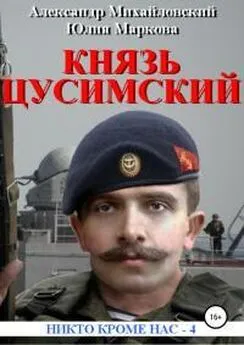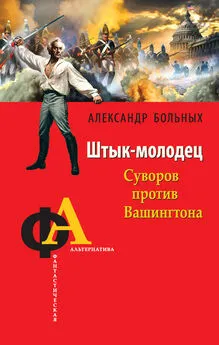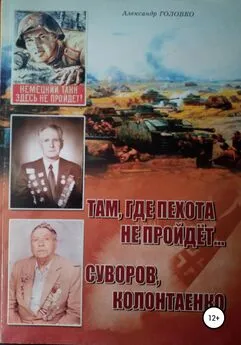Александр Пертушевский - Генералиссимус князь Суворов
- Название:Генералиссимус князь Суворов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1884
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Пертушевский - Генералиссимус князь Суворов краткое содержание
Однако, книга остается малоизвестной для широкой публики, и главная причина этого — большой объем. Полторы тысячи страниц, нагруженных ссылками, приложениями и пр., что необходимо для учёных-историков, мешает восприятию текста для рядового читателя. Здесь убраны многочисленные ссылки, приложения, примечания, библиография, полемика с давно забытыми оппонентами и пр., что при желании всегда можно посмотреть в полном издании.
Кроме того, авторский текст переведён на современный язык и местами несколько сокращён. К примеру, предложения типа:
«Храбрые, отважные русские воины предприняли энергические наступательные действия»
теперь выглядят так:
«Русские энергично атаковали».
Но к авторскому тексту не добавлено ни слова.
Генералиссимус князь Суворов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Взятием Бендер закончилась кампания. Австрийцы сделали в этом году больше, но все-таки мало по своим средствам: был взят Букарест Кобургом, сдался Белград и еще два пункта. Да и то следует принять во внимание, что важнейшее из сделанного австрийцами и Потемкиным, совершено благодаря впечатлению, произведенному на турок рымникским погромом. Особенно ясно это обнаружилось в Букаресте. Турки бросили его, как появился авангард Кобурга, и бежали с 4 пашами во главе. Так описывал он Суворову свое вступление в Букарест, относя панику турок к нравственному гнету от поражения.
Зима наступила рано, войска разошлись по зимним квартирам. Подходил к концу 1789 год. Огромные армии с главнокомандующими, осаждали крепости и забирали крепостцы, а два небольшие корпуса побили главную армию турок в генеральном сражении. Суворов уже оправдывал сказанное про него впоследствии одним писателем: "если победа не давалась добровольно в руки ему, своему любимцу, то он ее насиловал".
12. Вторая Турецкая война. Измаил. 1790.
Война тянулась давно, сделано было мало, и близкий конец не предвиделся. Австрия тяготилась участием в ней, особенно по кончине императора Иосифа в феврале 1790 и мятежах в Брабанте; Англия напрягала усилия оттянуть ее от союза с Россией. Отношения с Польшей могли разрешиться внезапным взрывом; война со Швецией еще не была окончена. Грозил разрыв с Пруссией, которая мобилизовала свою армию.
Силы русских против Турции уменьшились, и для наступления выделили всего две дивизии с небольшим отрядом между ними, всего 25000 человек. Оберегаясь от Пруссии, Австрия тоже забрала часть сил с турецкого театра войны.
Порта хотела наступать в Крыму и на Кубани, а на Дунае держать оборону, заняв крепости сильными гарнизонами. Боевые её средства для кампании 1790 были слабы. Выгадывая время, турки продолжали начавшиеся в прошлом году переговоры о мире и предложили заключить перемирие. Но Потемкин не согласился на приостановку военных действий, которые так и велись параллельно с мирными переговорами.
Суворов в виде подготовки к будущим наступлениям, вошёл в сношения с пашой в Браилове. Между ними установились отношения, какие бывают между воюющими во время перемирия: делали друг другу мелкие подарки, пересылались свежею рыбой и другой живностью, и переговаривались о деле. Суворов старался убедить пашу в бесполезности сопротивления Браилова, когда русские начнут наступление. Подействовало ли тут его грозное для турок имя, или паша имел свои соображения, но он согласился ограничиться легким сопротивлением, для вида, а затем сдать крепость. Суворов составил смелый план наступления за Дунай русских совместно с австрийцами. Принц Кобургский должен был взять Оршову и Журжу, Суворов - Браилов, и затем одновременно переправиться за Дунай. Кобург одобрил этот план, переписывался о нем с Суворовым, разъясняя подробности, но проект оставался проектом, потому что Потемкин не только не давал санкции, но просто не отвечал ни слова на все сообщения принца. Он не любил Кобурга; кроме того, он вероятно не рассчитывал на долговечность австрийского союза, что потом и оправдалось.
Кобург решил открыть действия один. Для исполнения своей части плана до перехода через Дунай, он не нуждался в содействии русских, а после того мог или рассчитывать на вынужденное согласие Потемкина поддержать его, или просто остановиться на сделанном. Он двинулся к Оршове, а когда Оршова сдалась, то осадил Журжу. Осада шла сначала хорошо, но вследствие ли самонадеянности австрийцев, или дурной наблюдательной их службы, осажденные сделали, в отсутствие Кобурга, весьма удачную вылазку, испортившую все дело. Они прогнали австрийцев, забрали у них артиллерию, нанесли урон в 1000 человек; по странному распоряжению, которое вероятно было следствием дурно понятых Суворовских уроков, прикрывавшие брешь-батарею батальоны получили приказание действовать штыками и не имели при себе патронов. Австрийцы были в 6 раз сильнее гарнизона Журжи, но потеряли всю свою осадную артиллерию и отступили.
Потемкин со злорадством описывал это дело Государыне, называя Кобурга тупым, достойным сумасшедшего дома; издевался над приказанием действовать одними штыками, говоря, что войскам разрешили только браниться из траншей или дразниться языком.
Дело под Журжей было частной неудачей, которую в конце месяца генерал Клерфе отчасти загладил победой под Калафатом. Но этими тремя делами и кончились активные действия австрийцев.
Готовясь к открытию кампании, Потемкин доносил Государыне, что рассчитывает начать военные действия рано и повести их стремительно, дабы повсюду и одновременно навести на неприятеля ужас. Если это было не похвальбой, то платоническим проектом, которые складываются в воображении у нерешительных людей и исчезают, когда надо приступать к делу. Проживая в Яссах и Бендерах, окруженный невиданной роскошью, Потемкин походил не на военачальника, а на владетельного государя среди блистательного двора. Тут были знатные и богатые иностранцы, рассыпавшиеся перед ним в комплиментах, а про себя издевавшиеся над его сатрапскими замашками, азиатскою роскошью и капризным непостоянством. Тут были люди знатных или влиятельных фамилий, налетевшие из столичных салонов за дешевыми лаврами; вокруг жужжал рой красавиц, вращался легион прихлебателей и проходимцев. Праздник следовал за праздником; одна затея пресыщенного человека менялась другою, еще больше чудною.
Суворов не посещал главной квартиры, возможно был там раз или два то в конце прошлого года. Он не затруднялся лишний раз и поклониться, и покадить своему всесильному начальнику, но не мог быть членом Потемкинского придворного штата, прихлебателем, участником "в хороводе трутней". Он, добровольно тешивший других разными выходками и коленцами, этим самым зло издевался над своей публикой; быть же невольным посмешищем вовсе не желал.
Под Яссами жил Румянцев в полном уединении, всеми забытый; Потемкин посетил его только однажды. Некоторые другие, весьма немногие, бывали у него изредка, как бы украдкой, а остальные будто и не знали про соседство старого победоносного фельдмаршала. Один Суворов оказывал ему должное уважение и притом открыто; бывая в Яссах, он являлся к Румянцеву. Посылая курьеров к Потемкину с донесениями о своих действиях, он посылал дубликаты Румянцеву, как будто тот по-прежнему командовал армией. На этом пробном камне сказалось различие между Суворовым и другими.
Сидя несколько месяцев в Бырладе, Суворов скучал бездействием, но бездействием боевым, а не недостатком дела вообще. Больше всего он занимался обучением войск, объезжая и осматривая их во всякое время года. Дома он отдавал досуги умственным занятиям, между которыми не последнее место занимало знакомство с кораном и изучение турецкого языка. Спустя 9 лет, в Италии, Суворов умел писать по-турецки и написал письмо турецкому адмиралу союзной турецко-русской эскадры. Большая часть свободного времени в Бырладе шла на чтение. При нем находился немецкий студент, которого он взял в чтецы. К нему Суворов очень привык, звал его Филиппом Ивановичем, хотя тот носил другое имя; предлагал ему определиться в военную службу и обещал вывести в штаб-офицеры. Кандидат по-видимому был не прочь, но отец его, гернгутер, не согласился, следуя принципам своего вероисповедания; разрешил же сыну поступить в чтецы к русскому генералу вероятно потому, что Суворов предупредил будущего сожителя о своем образе жизни, об отсутствии театров, карт, шумных сборищ. Суворов часто беседовал со своим молодым компаньоном о разнообразных предметах, из которых любимейшим была история, причем Суворов интересовался не столько фактической её стороной, сколько философской. Суворов был ненасытим, заставлял читать много и почти не давал ему отдыха, препираясь за каждую остановку. Читалось все на разных языках: газеты, журналы, военные мемуары, история, статистика, путешествия, не только книги, но и рукописи. Иногда к чтению приглашались офицеры Суворовского штаба и другие лица. Тут чтение принимало вид состязания или экзамена. Суворов предлагал присутствующим вопросы из истории вообще и военной истории в особенности; ответы были большей частью неудовлетворительные или заключались в молчании. Суворов стыдил невежд, указывал им на Филиппа Ивановича; говорил, что они должны знать больше его, а знают меньше. Нетрудно понять, что для такого времяпрепровождения, Суворову трудно было найти не только подходящих собеседников, но и просто желающих. И действительно, участие в чтениях принималось за тяжкую служебную обязанность, от которой все открещивались, особенно ввиду злых сарказмов хозяина-начальника. Один из генерал-адъютантов Суворова, которому Филипп Иванович с помощью какой-то удачной шутки доставил позволение - уходить с чтений когда угодно, долго с благодарностью вспоминал про эту услугу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: