Ричард Пайпс - Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2
- Название:Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московская школа политических исследований
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-93895-026-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Пайпс - Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2 краткое содержание
Согласно Пайпсу, разделяя идеи свободы и демократии, как политик Струве всегда оставался национальным мыслителем и патриотом.
Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Из этих двух направлений Струве, несомненно, симпатизировал последнему. Но хотя он принимал аналогию со «смутным временем» и отвергал параллели с французской революцией, едва ли можно утверждать, что господствующая консервативная трактовка разделялась им безоговорочно, целиком и полностью. В частности, Струве не одобрял присущее ей преувеличение роли заговоров или исторических случайностей; кроме того, в поведении русского народа в 1613 и 1917 годах было слишком много различий, делавших сопоставление не слишком продуктивным.
Что касается параллели между 1917 и 1789 годами, то ее он считал явно ошибочной. Русская и французская революции были принципиально разными феноменами, поскольку общества, в которых они совершались, самым серьезным образом отличались друг от друга [7]. Для Франции эпохи Бурбонов были характерны три особенности: (1) раздробленность права и порядка управления в национально и культурно объединенной среде; (2) связанность торговли и промышленности многочисленными ограничениями и (3) крайнее развитие сословных привилегий, в особенности проявляющееся в податном неравенстве сословий. В России ничего подобного не было. Россия при старом режиме всегда отличалась значительной цельностью и согласованностью административных и правовых норм. Свобода внутренней торговли восторжествовала здесь в XVIII веке, еще до начала революции во Франции. Что же касается сословных привилегий, включая различия в налогообложении, то они были упразднены до 1917 года. Таким образом, заключал Струве, «хозяйственное и административно-правовое содержание французской революции в большей его части было осуществлено в России так называемым “старым порядком”» [8]. Для того чтобы выполнить «историческую миссию» французской революции, России вовсе не требовалось переворачивать все вверх дном. Еще одно отличие заключалось в том, что во Франции философский радикализм, добившийся триумфа в 1789 году, не имел конкурентов и господствовал безраздельно, в то время как в дореволюционной России сформировалось мощное религиозное направление общественной мысли, представленное Пушкиным, Гоголем, славянофилами, Достоевским, Леонтьевым, Соловьевым и Розановым, которое активно противостояло восторжествовавшему в 1917 революционному духу [9]. В целом аналогия с Францией оказывается несостоятельной. Позже Струве отвергнет модную в эмигрантских кругах интерпретацию, согласно которой России приписывался «коммунистический термидор», а Сталин объявлялся «советским Бонапартом». Несмотря на то, что параллели со «смутным временем» проводились Струве неоднократно [10], он обращался к подобным сопоставлениям не столько с эвристической целью, сколько желая пробудить в соотечественниках стремление подражать героям 1613 года.
В конечном счете Струве полагал, что русская революция была событием sui generis, не имеющим прецедентов ни в отечественной, ни в мировой истории, — за исключением, вероятно, падения Римской империи. «Мы пережили несравненные ни с чем испытания и катастрофы, — писал он в 1935 году, когда масштабы сталинского террора еще не прояснились, — мы находимся в совершенно несравнимых ни с чем положениях» [11]. Уникальным качеством русской революции стал ее беспредельно разрушительный характер. «Вообще созидательных потенций нет и не видно в русской революции»; то было «государственное самоубийство государственного народа », «самое истребительное событие в мировой истории» [12]. Вопреки Милюкову и прочим левым, он не усматривал в коммунистической системе возможностей для эволюции. Русскую революцию нельзя изменить, ее можно только преодолеть. По этой причине Струве даже сомневался в том, можно ли называть «революцией» столь катастрофическое событие. В частности, в одной из статей он объявлял ее исторической аналогией того процесса, который в биологической науке называют «регрессивной метаморфозой» [13].
Но как подобная абсолютно нигилистическая революция стала возможной? И почему она произошла именно в России, а не где-либо еще? Обычно, отвечая на этот вопрос, исключительную жестокость русской революции объясняют низкой культурой населения, одичавшего от столетий крепостного рабства и, как саркастически говорил Троцкий, не обученного правителями хорошим манерам. Струве подобное объяснение не устраивало. Культурную отсталость русского народа он не отрицал — ведь именно для борьбы с нею в разгар революционных событий им была основана Лига русской культуры. Но в то же время такой ответ казался ему недостаточным по двум причинам. Во-первых, в XVII–XVIII веках, когда случились восстания Разина и Пугачева, русские люди были еще более некультурны, но все же разрушить государство тогда не удалось. Во-вторых, во времена английской и французской революций 1688 и 1789 годов простые англичане и французы были ненамного культурнее русских мужиков 1917 года: «У нас как-то очень легко забывают, что «культурность» народных масс там, где она налицо, и поскольку она действительно наблюдается, есть приобретение почти исключительно XIX в. и что для XVII и XVIII вв. о культурности этих масс даже у самых передовых народов Запада речи быть не может» [14].
Решающим фактором, обусловившим особо деструктивный характер русской революции, Струве считал неучастие в политическом процессе двух ключевых групп российского населения — образованной элиты и крестьянства. В самом сжатом виде его диагноз звучит так: «Несчастье России и главная причина катастрофического характера русской революции состоит именно в том, что народ, население, общество (назовите, как хотите) не было в надлежащей постепенности привлечено и привлекаемо к активному и ответственному участию в государственной жизни и государственной власти » [15]. Этот ключевой пассаж, написанный Струве еще в 1919 году и в различных вариациях воспроизводимый в работах последующих двадцати пяти лет, хорошо показывает преемственность его мысли. С самых первых студенческих публикаций он настаивал на том, что единственным способом преодоления всеобъемлющего кризиса, в котором находилась Российская империя, является более широкое вовлечение населения в политический процесс и соответствующее «образование» масс. Уже в «Открытом письме Николаю II», написанном в 1895 году, он предсказывал, что если режим и дальше будет настаивать на бюрократическом управлении страной в условиях абсолютного молчания общества, его ждет печальный конец [16]. Впоследствии, несмотря на свои идейные перемещения слева направо, он не менял взгляды на данный предмет. Таким образом, посмертный приговор, вынесенный Струве имперскому режиму, возник не на пустом месте; это было лишь подтверждение оценок, выставленных империи в период, когда последняя была еще жива и способна к переменам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
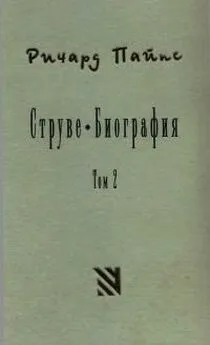









![Ричард Пайпс - Я жил [Мемуары непримкнувшего]](/books/1071983/richard-pajps-ya-zhil-memuary-neprimknuvshego.webp)