Ричард Пайпс - Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2
- Название:Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московская школа политических исследований
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-93895-026-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Пайпс - Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2 краткое содержание
Согласно Пайпсу, разделяя идеи свободы и демократии, как политик Струве всегда оставался национальным мыслителем и патриотом.
Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сами по себе эти асоциальные и аполитичные склонности русского образованного меньшинства не повлекли бы столь разрушительных последствий, если бы в стране имелись силы, способные их уравновесить. Так было, в частности, во Франции, где консерватизм деревни неизменно нейтрализовал утопические мечтания городской интеллигенции. В России же подобный консервативный противовес отсутствовал: в основном безграмотная сельская масса была подвержена деструктивным чувствам в той же мере, что и образованный класс. Если верхи шли в анархисты от недостаточной причастности к политической жизни общества, то низы поступали так же из-за того, что не имели возможности укреплять чувство частной собственности, института, который, по мнению Струве, повсюду выступал в роли главной школы политического и правового образования масс. Частная собственность пришла в Россию слишком поздно и не смогла укорениться в народном сознании: «Чувство и идея собственности чрезвычайно слабо развиты в широких массах русского народа. Это вовсе не делает русский народ социалистическим в культурном западноевропейском смысле слова, в этом выражается лишь известная его хозяйственная незрелость, связанная со слабым развитием в нем правосознания. Ибо несомненно, что факт и идея собственности есть тот главный стержень, на котором развивалось, опиралось и упражнялось человеческое правосознание вообще» [23].
Главная причина такого положения вещей заключалась, несомненно, в крепостничестве, сохранение которого в XIX веке стало своеобразной платой короны за политическую пассивность дворянства: «Крепостным правом русская монархия откупалась от политической реформы» [24]. Крепостная зависимость не позволяла большинству русских крестьян приобщиться к собственности и законности, делая их восприимчивыми к интеллигентской проповеди классовой войны и анархизма. Хуже того, крестьяне выхватывали из этих поучений лишь те моменты, которые касались разрушения и грабежа; конструктивные идеалы социальной справедливости и демократии, заложенные в социализме, полностью ускользали от их внимания.
«Отвлеченное социологическое начало классовой борьбы, брошенное в русские массы, было ими воспринято, с одной стороны, чисто психологически, как вражда к “буржуям”, к “господам”, к “интеллигенции”, к “кадетам”, “юнкарям”, к “дамам в шляпах” и к т. п. категориям, не имеющим никакого производственно-экономического смысла; с другой стороны, оно как директива социально- политических действий было воспринято чисто погромно-механически, как лозунг истребления, заушения и ограбления “буржуев”. Поэтому организующее значение идеи классовой борьбы в русской революции было и продолжает быть ничтожно; ее разрушительное значение было и продолжает быть безмерно» [25].
Таким образом, Струве удалось выявить силы, ответственные за катастрофу 1917 года. Здесь были две ключевых составляющих, причем каждая явилась порождением монархии, слишком долго и слишком ревностно настаивающей на своих самодержавных прерогативах. Это — интеллигенция и крестьянство, одинаково отчужденные от государства, собственности и права. В 1917 году обе эти силы объединились: «Из политического бесправия дворянства и других культурных классов родилось государственное отщепенство интеллигенции. А это государственное отщепенство выработало те духовные яды, которые, проникнув в крестьянство, до 1861 г. жившее без права и прав, не развившее в себе ни сознания, ни инстинкта собственности, подвинули крестьянскую массу, одетую в серые шинели, на ниспровержение государства и экономической культуры» [26]. В России XX века основы цивилизации подверглись атаке сразу с двух сторон: они оказались под перекрестным огнем со стороны элиты и народных масс, объединивших усилия ради разрушения государства, правопорядка и собственности. Столь пагубного альянса не знала прежде ни одна революция. В конечном счете ответственность за эту трагедию ложится на монархию, не сумевшую своевременно осуществить политические и социальные преобразования. Конституционную реформу и освобождение крестьян, писал Струве, необходимо было провести не позже начала XIX столетия. «Слишком поздно свершилась в России политическая реформа; слишком поздно произошла отмена крепостного права» [27].
Но таковы были лишь долгосрочные исторические предпосылки 1917 года. Сам ход событий после февраля 1917 года — падение династии, бессилие Временного правительства, триумф большевиков — отнюдь не был предрешен или неизбежен. «Конечно, кто “сделал” февральские дни (если кто-нибудь их сделал), тот совершил, с моей точки зрения, огромную историческую ошибку. Но если 27-го февраля — 5-го марта были сделаны ошибки, то это вовсе не значит, что позже, после 5-го марта, до самого большевистского переворота, эти ошибки не могли быть исправлены. Никакая историческая ошибка, своя или чужая, не может наперед почитаться неисправимой. Утверждать противоположное значит именно впадать в фатализм» [28].
Со временем Струве начал более терпимо относиться к Николаю II, которого в молодые годы считал воплощением зла. И дело заключалось не в том, что он был готов простить последнему царю его политику. Напротив, именно на Николая он возлагал тяжкую ответственность за неумение наладить эффективное партнерство между государством и обществом, а также за недостойное обращение с верными слугами России, такими как Витте и Столыпин [29]. Но отречение, совершенное в «буддийском духе» и вверившее царя и его семейство судьбе, а также отказ монарха бежать за границу, вознесли последнего самодержца до того уровня, на котором, по мнению Струве, чисто политические критерии уже не работали [30]. Смерть Николая стала чем-то вроде религиозного мученичества. Струве полагал, что поведение царя наилучшим образом можно объяснить в религиозных терминах.
«В политическом мировоззрении Николая II просматривалась какая-то религиозная твердость. В основе ее лежал пиетет перед отцом и его наследием, напоминавший поклонение предкам и глубоко запечатленный в понимании царем призвания самодержца. Николай II был талантливым человеком, способным быстро схватывать суть вещей, но обладавшим слишком слабой волей для того, чтобы действовать. Эта слабая воля, на которую легла величайшая политическая ответственность, была напрочь отстранена от всех живительных веяний внешнего мира исключительно потому, что ее носитель обладал статусом неограниченного монарха. Это отчуждение Николая от мира питалось политико-религиозным настроем, который уже давно перестал соответствовать политической реальности» [31].
В трактовке колебаний, явленных Николаем в критические моменты русской истории, ссылки на политику «поклонения предкам» и связанное с последним обожествление принципов самодержавия казались Струве наиболее удовлетворительным аргументом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
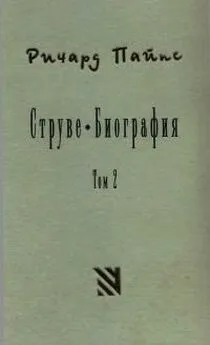









![Ричард Пайпс - Я жил [Мемуары непримкнувшего]](/books/1071983/richard-pajps-ya-zhil-memuary-neprimknuvshego.webp)