Ричард Пайпс - Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2
- Название:Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московская школа политических исследований
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-93895-026-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Пайпс - Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2 краткое содержание
Согласно Пайпсу, разделяя идеи свободы и демократии, как политик Струве всегда оставался национальным мыслителем и патриотом.
Струве: правый либерал, 1905-1944. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дело тут, конечно, не только или даже не столько в практических приемах и методах борьбы, сколько в ее психологии…Ничто не было столь вредно для «белого» движения, как именно состояние психологического пребывания в прежних условиях, которые перестали существовать, эта не программная, а психологическая “старорежимность”. В России в 1917 г. началась длительная революционная борьба, в которую руководящие “красные” вошли с революционными навыками, а руководящие “белые” с навыками “старорежимными”, соответствующими старому общественному укладу и прочному государственному порядку. Между тем ни того, ни другого уже не существовало. Люди с этой “старорежимной” психологией были погружены в бушующее море революционной анархии, и в нем они психологически не могли ориентироваться. Я нарочно подчеркиваю, что “старорежимность” я понимаю в данном случае вовсе не в программном, а в чисто психологическом смысле. В революционной буре, которая налетела на Россию в 1917 г., даже чистые реставраторы должны бы были стать революционерами в психологическом смысле. Ибо в революции найтись могут только революционеры» [36].
Иной раз в пылу споров по поводу «белой» армии и ее будущего Струве впадал в крайности. К примеру, в одной из газетных статей, написанных в начале 1921 года, когда эмигрантские политики разделились на сторонников «активизма» и «неактивизма», он зашел столь далеко, что приписал провал деникинского наступления 1919 года нехватке лошадей в белогвардейской кавалерии [37].
Впрочем, подобные полемические эксцессы никак не отражались на качестве аналитических выкладок, вырабатываемых им в минуты трезвого размышления.
Его оценки большевизма — причин, практики и перспектив последнего — коренились в общем восприятии им социализма. Разумеется, иногда Струве вообще отрицал какую бы то ни было связь между социализмом и большевизмом, называя, скажем, учение Ленина «пугачевщиной», развернутой во имя социализма, разновидностью «популизма» или «нелепостью» с марксистской точки зрения [38]. В данном вопросе он был особенно непоследователен. И на то имелись веские причины: признание социалистических, марксистских корней большевизма делало Струве уязвимым перед обвинениями в том, что, являясь одним из основоположников русского марксизма, он несет личную ответственность за деяния Ленина и Сталина. И все же в своих исследовательских работах Струве был склонен признать, что большевизм представлял собой законное дитя социализма. «Экономическая политика советской власти всецело подчинена социалистической идее и программе, — писал он в 1921 году. — Отрицать социалистический характер советского законодательства значит отрицать нечто логически очевидное» [39]. Хотя во многих своих проявлениях и особенно в присущей ему жестокости большевизм отошел от социалистических принципов, тем не менее в основном эта доктрина остается разновидностью социализма.
Что же показал опыт большевизма? Он продемонстрировал недостижимость социалистического идеала. 26 октября 1917 года навсегда осталось для Струве «проклятым днем», убившим подлинную идею социализма, которая вдохновляла целые поколения русской интеллигенции [40]. Большевизм исполнил пророчество Чаадаева, согласно которому русские существуют как будто только для того, чтобы преподать миру какой-то великий урок [41], и суть этого урока заключается в том, что социализм — невозможен.
«Социализм требует, во-1-х, равенства людей… Социализм требует, во-2-х, организации всего народного хозяйства и, в частности, процесса производства. Социализм требует и того, и другого, и одного — во имя другого. Но оба эти начала в своем полном или конечном осуществлении противоречат человеческой природе и оба они, что, быть может, еще несомненнее и еще важнее, противоречат друг другу. На основе равенства людей вы не можете организовать производства….
Социализм — учит марксизм — требует роста производительных сил. Социализм — учит опыт русской революции — несовместим с ростом производительных сил, более того, он означает их упадок.
Русская революция потому имеет всемирно-историческое значение, что она есть практическое опровержение социализма, в его подлинном смысле учения об организации производства на основе равенства людей, есть опровержение эгалитарного социализма» [42].
Опыт русской революции полностью излечил Струве от иллюзий, которые он сохранял даже после того, как порвал с социализмом лично: от убеждения в том, что на социалистических принципах, по крайней мере теоретически, можно построить свободное и справедливое общество. Свобода и справедливость, учила его революция, достижимы только на основе рыночной экономики, краеугольным камнем которой является частная собственность и которая предполагает ту или иную степень неравенства.
Струве довольно быстро понял, что большевистский режим никогда не сможет трансформироваться в более демократичную систему. Это убеждение, горячо отстаиваемое им в 20-е — 30-е годы, поссорило его со многими русскими эмигрантами, а также иностранными наблюдателями, которые, опираясь на опыт французской революции, утверждали, что рано или поздно «советский термидор» станет неизбежным. Подобное едва ли возможно, заявлял Струве, по целому ряду причин и прежде всего потому, что альянс между радикальной интеллигенцией и крестьянскими массами, ниспровергший русское государство, по сути своей фундаментально негативен: это союз против, а не за. Летом 1918 года он излагал следующие мысли:
«В том, что произошло, характерно и существенно своеобразное сочетание, с одной стороны, безмерной рационалистической гордыни ничтожной кучки вожаков, с другой — разнузданных инстинктов и вожделений неопределенного множества людей, масс.
Таково реальное воплощение в жизни проповеди революционного социализма, опирающегося на идею классовой борьбы. Вожаки мыслят себе организацию общества согласно идеалам коммунизма, как цель, разрыв существующих духовных связей и разрушение унаследованных общественных отношений и учреждений — как средство. Массы же не приемлют, не понимают и не могут понять конструктивной цели социализма, но зато жадно воспринимают и с увлечением применяют разрушительное средство.
Поэтому идея социализма как организации хозяйственной жизни, — безразлично, правильна или неправильна эта идея, — вовсе не воспринимается русскими массами; социализм (или коммунизм) мыслится ими только либо как раздел наличного имущества, либо как получение достаточного и равного пайка с наименьшей затратой труда, с минимумом обязательств. Раздел наличного имущества, равномерный или неравномерный, с признанием или непризнанием права собственности, во всяком случае ничего общего с социализмом как идеей организации хозяйственной жизни не имеет и есть не конструктивно-социалистическая, а отрицательно-индивидуалистическая манипуляция, простое перераспределение или перемещение благ или собственности из одних рук в другие.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
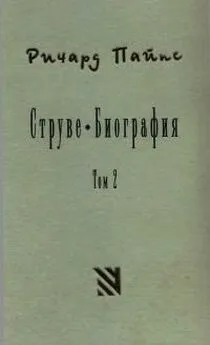









![Ричард Пайпс - Я жил [Мемуары непримкнувшего]](/books/1071983/richard-pajps-ya-zhil-memuary-neprimknuvshego.webp)