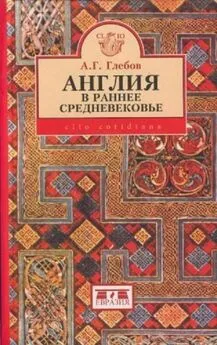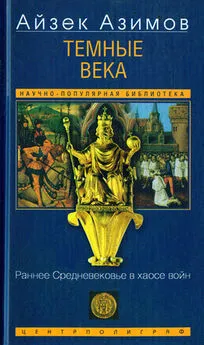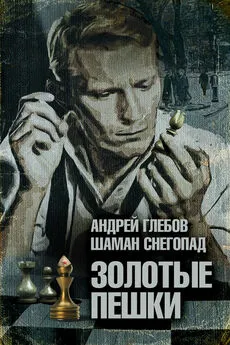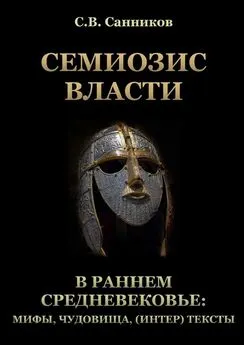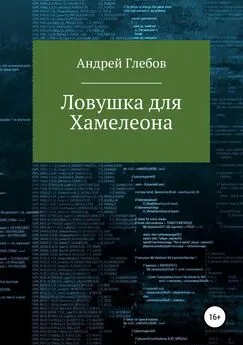Андрей Глебов - Англия в раннее средневековье
- Название:Англия в раннее средневековье
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2007
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8071-0166-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Глебов - Англия в раннее средневековье краткое содержание
Для специалистов-историков, преподавателей вузов, аспирантов, студентов.
Англия в раннее средневековье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Думается, однако, что эти правовые нормы были скорее данью традиции, нежели воспроизведением в законодательстве реального положения короля в позднем англосаксонском обществе. Представления о государственном характере королевской власти и праве королей на осуществление общего руководства всем населением, которое является их подданными, получившие распространение еще в предшествующую эпоху, окончательно закрепляются в сознании общества [637] Глебов А. Г. «Если кто злоумышляет против жизни короля…»; антигосударственные преступления в раннесредневековой Англии // Средние века. М., 1997. Вып. 60. С. 60. С. 229–239.
. Идея повиновения королю как носителю высшей власти, суверену, который вправе приказывать и требовать выполнения своих повелений, становится общим местом всех сборников законов рассматриваемого периода [638] См., напр., IV Aethelred, 1, § 1, где всем свободным без исключения предписывается хранить верность и повиноваться «одному королю».
. Более того, в X — начале XI в. изменяется сама терминология законодательных источников, трактующая статус носителей королевского титула. В документах предшествующего времени мы вообще не встречаем формулы, в которой было бы заключено требование повиновения монарху как главе государственной власти. К концу же англосаксонского периода король «приказывает» ( webebeodath ), «изъявляет желание» ( ic wille ); любое его постановление является «приказом» ( geraedness ) [639] I Aethelstan, Prol., 1; VI Aethelstan, 11; 1 Eadmund, 2; V Aethelred, 1, § 1.
. Со времени царствования Этельстана в хартиях, оформлявших земельные пожалования, появляются так называемые «имперские титулы», применяемые к англосаксонским монархам, — monarchus totiiis Britanniae, imperator totius Albions [640] Cartularium Saxonicum… L., 1887. Vol. 2. № 660, 670; L., 1893. Vol. 3. № 819, 880. Скорее всего, эти титулы не соответствовали действительному положению англосаксонских государей. Во всяком случае, историкам не удалось обнаружить следов «империи» ни в «Англосаксонской хронике», ни в монетном деле, ни в коронационном ритуале. (Loyn Н. R. The imperial style of the tenth century Anglo-Saxon kings // History. 1955. Vol. 40. № 138–139. P. 110–115.)
(государь всей Британии, император всего Альбиона), совершенно неизвестные ранее.
В поздний англосаксонский период значительно изменяются и взаимоотношения королевской власти и Церкви в Англии. Если в VII–IX столетиях положение церковной организации, да и христианства вообще, в англосаксонском обществе было довольно неустойчивым, то к рубежу X–XI вв. ситуация становится существенно иной, в том числе и в плане воздействия развиваемых церковью политико-правовых доктрин на практику королевского законодательства.
Наиболее важной в этом отношении, видимо, была проповедуемая духовенством идея божественного происхождения власти короля и формула «король милостью Божьей» ( gratia Dei, providentia Dei ). В XI в. она закрепляется юридически: в VIII кодексе Этельреда Нерешительного было впервые открыто декларировано, что король является наместником Бога в своем королевстве [641] VIII Aethelred, 2. § 1.
. На этом основании клирики провозглашают незыблемость власти государей. Так, аббат Элфрик в одной из своих проповедей подчеркивал, что «по Божьему соизволению» люди могут сами выбрать себе правителя, «но после того как он посвящен в королевский сан, пусть имеет власть над всеми людьми, и они не могут сбросить его ярмо со своих вый» [642] English Historical Documents… P. 851.
. В связи с этим преданность и повиновение носителю королевского звания объявляются богоугодным делом; пренебрежение же влечет за собой Божью кару. Архиепископ Кентерберийский Вульфстан в проповеди « Sermo Lupi ad Anglos » бичевал тех, кто предает своих господ и злоумышляет против короля: «Худшим из всех предательств в мире является то, когда человек предает душу своего лорда; и другое великое предательство в мире (состоит в том), что человек устраивает заговор против жизни своего короля или изгоняет его... и оба эти (преступления) были совершены в этой стране» [643] Ibid. P. 856–857.
.
Привнесение Церковью новых элементов в восприятие статуса короля и его власти (король — помазанник Божий, король — земной наместник Господа) способствовало изживанию еще сохранявшихся архаичных представлений о короле, и наоборот, укреплению тех правовых интерпретаций его личности и функций, которые были связаны с идеей монарха-суверена. Неслучайно в праве исследуемого времени прослеживается стремление законодателей увязать необходимость почитания единого Бога с требованием повиноваться одному королю и указания на то, что нарушения этих установлений являются самыми тяжкими преступлениями [644] V Aethelred. 1; VIII Aethelred, 44; I Cnut, 1.
.
Таким образом, к середине XI столетия за англосаксонскими королями не только фиксируется повышенный, даже по сравнению с высшей знатью, статус, но и закрепляется королевский суверенитет. В целом происходит дальнейшее укрепление государственности у англосаксов, осуществлявшееся по тем направлениям, которые наметились в предшествующий период.
Являясь центром складывающейся государственной администрации, англосаксонский король располагал для целей управления двумя основными учреждениями. Первым из них был его собственный двор, в котором сосредоточивались все отрасли управления; вторым — представители светской и духовной знати, периодически собиравшиеся на советы уитанов (от древнеангл. witan — «мудрый»). При этом предполагалось, что королевский двор занимался прежде всего повседневной управленческой рутиной, в то время как собрание уитанов играло совещательную роль при выработке правительственной политики [645] Deansley M. The court of king Aethelbert of Kent // The Cambridge historical journal. 1942. Vol. 7. № 2. P. 101–114; Larson L. M. The king’s household in England before the Norman conquest. Madison, 1904.
.
Со времени появления у англосаксов самого института королевской власти вполне очевидно существование у них хотя бы некоего зачатка королевского двора. Вряд ли стоит сомневаться и в том, что в ранний период англосаксонский королевский двор не слишком сильно отличался от окружения германского конунга I в. н. э., описанного Тацитом [646] Tacit. Germ. 13–15.
, как своим составом, так и социальным поведением. Главным достоинством членов comitatus ’a по-прежнему оставалась верность (вплоть до самопожертвования) своему предводителю, от которого, в свою очередь, они ожидали наград в виде части военной добычи и достойного их лояльности содержания. Во всяком случае, именно такие отношения внутри нортумбрийского двора в середине VII в. рисует в своей «Церковной истории» Беда Почтенный, рассказывая о жизни короля Освина (644–651 гг.) [647] Beda Venerabilis. Historia ecdesiastica gentis Anglorum. III, 14 // Monum. Hist. Brit. L, 1848. Vol. I. P. 130. Далее сочинение Беды цитируется с указанием номера книги и главы.
. Сходные описания мы находим в «Англосаксонской хронике» под 786 г. (история убийства короля Уэссекса Кюневульфа) [648] The Anglo-Saxon chronicle., а. 786. Р. 166. Подробнее об эпизоде см.: White S. D. Kinship and lordship in early medieval England: The story of Sigeberht, Cynewulf and Cyneheard // Viator. 1989. Vol. 20 (1989). P. 1–18.
и в некоторых образцах героической поэзии, относящихся к концу X в. («Битва при Мэлдоне») [649] Битва при Мэлдоне // Древнеанглийская поэзия… С. 137 сл.
. Все это говорит о том, что англосаксонский королевский двор очень долгое время продолжал сохранять дружинные черты воинского сообщества, спаянного личной преданностью и долгом.
Интервал:
Закладка: