Евгений Добренко - Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 1
- Название:Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1333-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Добренко - Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 1 краткое содержание
Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Риторика осуждения картины не могла в этих условиях строиться иначе, как на противопоставлении того, «как-должно-быть», тому, «что-получилось». В результате обнажалась та именно историческая реальность, которую официальный миф старательно стремился скрыть. Это происходило не только в кулуарах, но и публично. Критик Ростислав Юренев писал:
Нас пытались уверить, что политика Ивана прогрессивна, но никакой политики в фильме нет, если не считать ею придворные интриги. Нас пытались уверить, что борьба с боярами носит общественный, политический характер, но объяснение этой ненависти, этой борьбы дано психо-физиологическое: показано детство Ивана, когда его бледного, болезненного и нервного отрока, будто только что сошедшего с иконы, пугали и мучили грубые бояре, посеявшие в его сердце жестокость и вечную к себе ненависть. Нас пытались уверить, что государственный аппарат Грозного был прогрессивным, но показали опричников беснующимися в личинах, пьяными, орущими песни про убийства, про кровь, кривляющимися то в красных, то в черных монашеских балахонах. Наконец, нас пытались уверить, что все помыслы и чувства Грозного были обращены к народу. Но что общего между великим русским народом и психопатом, страшным и жалким, каким выведен Грозный во второй серии фильма? [364]
Первая часть конструкции («нас пытались уверить, что») звучит двусмысленно: как будто речь идет о том, что кто-то – не Эйзенштейн – пытался уверить в положительных сторонах Ивана, тогда как фильм показал совершенно иное. Трудно придумать что-либо более разрушительное для апологетической мифологии, основанной на снятии всяких противоречий в образе Ивана Грозного, чем сама эта противопоставительная конструкция в тот именно момент, когда апологетические пьесы Алексея Толстого и Владимира Соловьева шли в крупнейших театрах страны (включая МХАТ, Малый, им. Вахтангова, ленинградские и многие провинциальные театры), когда многотысячными тиражами выходили книги историков (Роберта Виппера, Ивана Смирнова, Сергея Бахрушина) с апологетикой Ивана, статьи в центральных газетах, а также литературные произведения – от трехтомного романа Валентина Костылева до «стихотворной трагедии» Ильи Сельвинского [365].
Первым в расставленной Эйзенштейном ловушке оказался, однако, не Сталин, но худсовет Министерства кинематографии СССР, где обсуждался фильм. Первая серия картины, которая, как все знали, была заказана Эйзенштейну Сталиным и только что удостоилась Сталинской премии первой степени, задавала оптику при оценке второй серии, а «поскольку никто уже не сомневался, что первая серия – это рассказ и о Сталине и его диктатуре, утверждать, что вторая о чем-то другом, было просто невозможно» [366]. Поэтому, даже поняв замысел второй серии картины, коллеги Эйзенштейна оказались в весьма опасной ситуации:
Разве могли они вслух его хотя бы сформулировать, не то что открыто обсуждать, принимая или отвергая? В любом случае это значило рисковать жизнью Эйзенштейна, притом смертельно, да и себя ставить в крайне опасное положение нежелательных свидетелей дерзкого богохульства, недопустимого даже в помыслах, даже в подсознании. Тем, кто брал слово, оставалось одно – сравнивать исполнение с заказом, а делать это жестко или мягко – вот тут выбор был за каждым. И отдадим им должное: они высказывали упреки достаточно сдержанно [367].
Субверсивная стратегия Эйзенштейна основывалась на сознательной двусмысленности и очевидном несоответствии исполнения заданию. Один из самых официозных советских писателей Леонид Соболев во время обсуждения второй серии не удержался от того, чтобы не заподозрить Эйзенштейна в сознательном уклонении от обещанной «трагедии»: «Хотя Грозный клянется, что во имя народа, во имя будущего, во имя выхода на Балтику он все делает, но я вижу другое, что данный человек удерживается на троне и хочет порубать своих врагов ‹…› Когда Басманов говорит: жарь, жги терема, то это уничтожение не во имя народа, не во имя исторического будущего, а во имя присущего людям садизма: им нравится убивать, сжигать терема» [368]. Именно это почувствовал и Сталин, сравнив эйзенштейновских опричников с ку-клукс-клановцами.
Идущее же от фильма «объяснение» (а с ним и оправдание) русской истории (через жертвы и трагедию) было также поставлено под сомнение уже современниками Эйзенштейна. Во время той же дискуссии Иван Пырьев по этому поводу заметил: «Как русскому человеку мне тяжело смотреть такую картину. Я не могу ее принять, потому что мне становится стыдно за свое прошлое, за прошлое нашей России, стыдно за этого великого государя – Грозного, который был объединителем и первым прогрессивным царем нашей России» [369]. Менее искушенные, чем Пырьев, зрители, такие как Борис Чирков, и вовсе впали в депрессию: «На меня эта картина произвела страшное, угнетающее впечатление. Не только потому, что я этих людей не понял, как живых, как передвигающиеся каменные глыбы. Страшно за людей. Какие страшные люди не только жили, но продолжают жить. Страшно за человечество. Меня это очень подавило. (Голос с места: Стоит ли жить?)» [370]
В этих условиях самым мягким из возможных обвинений стало обвинение в «нерусскости» картины – обвинение по тем временам тяжелое, но все же куда менее опасное, чем обвинение в «антисоветскости»:
Михаил Ромм.Все это какое-то нерусское. Это какая-то переряженная Испания, перенесенная на Потылиху ‹…› Пещное действие показано как-то странно: какие-то загримированные китайцы, какие-то скоморохи, играющие халдеев [371].
Леонид Соболев.Это – не русская картина. Она и в первой серии была такой. Ничего в ней нет русского ‹…› как это ни странно, единственный, в ком я чувствую русского, – это этот болван, кретин – Владимир Старицкий. Иван Грозный – нерусский [372].
Иван Пырьев.Мне непонятно из этой картины, почему бояр обвиняют в том, что они – за иноземцев, что они родину готовы продать иноземцам и т. д. Этого не видно из картины. Наоборот, судя по тому, как себя ведет Грозный и опричники, как они одеты, какие они делают поступки, какой у них грим, какое у них поведение, в какой обстановке они живут, – я, скорее, обвинение могу предъявить Грозному и его опричникам, что они продались иноземцам, потому что ведут себя не как русские люди, а как иезуиты какие-то, как поклонники Гойлы [373], и Грозный является тем великим инквизитором, который возглавляет эту опричнину. Я оправдываю и целиком стою на стороне тех бояр, которым рубят головы, этих русских бородатых людей, добрых и хороших, потому что не показано, почему они плохи, я ничего за ними – никаких поступков против Русского государства – не вижу. Так что я стою за бояр, за Владимира, потому что в нем есть черты настоящего человека, во всяком случае – проблески этого настоящего человека [374]. В то же время во всех этих людях, которые следуют за Грозным, во главе с Малютой, ничего человеческого, доброго, хорошего (в каком бы это веке ни было, но идущего от русских людей) – нет ‹…› царь выглядит здесь не прогрессивным царем, а лишь великим инквизитором, собравшим вокруг себя этих страшных молодых людей, которые похожи в своем поведении на фашистов в XVI веке [375].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
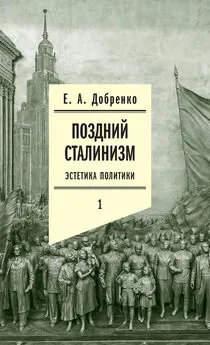
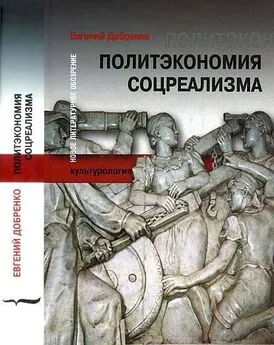

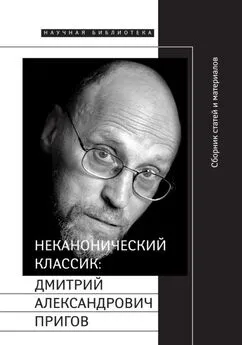


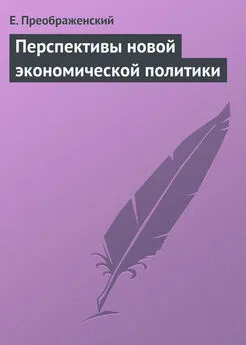
![Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145046/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya.webp)


