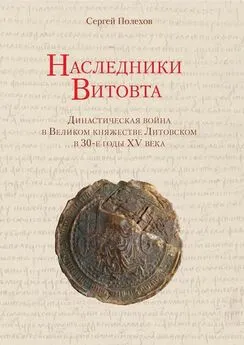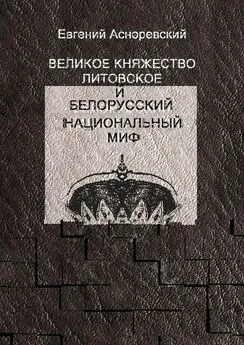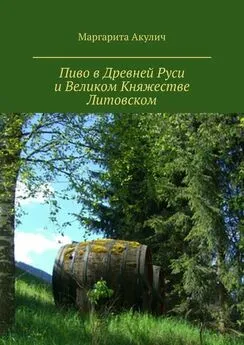Сергей Полехов - Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века
- Название:Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Индрик
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-366-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Полехов - Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века краткое содержание
Исследование основано на широком круге источников, многие из которых вводятся в научный оборот.
Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как видно из приведенных данных, «литовско-русские» князья действительно нередко лишались своих владений (или же пересмотру подвергался их статус) и поступали на службу к великому князю литовскому. Но Гедиминовичи, облеченные властью, всячески стремились сгладить этот процесс, — причем делал это не только Витовт, но и Ягайло, не заинтересованный в возникновении очагов нестабильности в своей «отчине» Великом княжестве Литовском. Правомерно ли вслед за Е. Сухоцким говорить о «деклассации» князей в 1386–1432 гг.? Чтобы об этом рассуждать, необходимо установить критерий принадлежности к данному «классу». Им, несомненно, является не владение теми или иными землями на «княжеском праве», а право рождения, дававшее княжеский титул (во всяком случае до XVI в., когда литовские магнаты начали получать титулы Священной Римской империи). Но утрата княжеского титула — это совершенно особая большая проблема, отличная от «деклассации» по Сухоцкому. Безземельные князья, вынужденные поступать на службу к своим «собратьям», — такая же реальность Великого княжества Литовского, как и государств Рюриковичей [340]. И Гедимин, и Ольгерд, и Кейстут, и Ягайло, и Витовт, создавая и ликвидируя уделы, перемещая князей между ними, руководствовались династическими соображениями — стремлением сохранить эти территории под своей верховной властью и обеспечить своих родственников материально. Поэтому в XIV в. княжеский престиж точно так же использовался для «государственных потребностей», как и в XV. В последнем случае такое использование усматривается в том, что князья появляются среди свидетелей межгосударственных договоров, выполняют почетные политические поручения (посольства) и «из вежливости» привлекаются к совещаниям великого князя [341]. Но само участие князей в заключении договоров с соседями ВКЛ — показатель их влияния, поскольку функция свидетелей состояла в том, чтобы гарантировать исполнение юридического содержания договора (разумеется, речь идет не о «представительстве» от князей «вообще», а о политическом весе конкретных носителей этого титула). Как историк XX в. мог установить роль князей в совещаниях с великим князем, особенно если эти совещания были закрытыми от посторонних, — остается загадкой. Словом, говорить о «деклассации» князей как некоей единой социальной группы в результате планомерных и целенаправленых действий литовских правителей неправомерно, тогда как ликвидация Витовтом крупных удельных княжеств в конце XIV в. сомнений не вызывает.
Остается вопрос: каким образом действие столь разнонаправленных интересов нескольких сторон сказалось на событиях 30-х годов XV в.? Ответить на этот вопрос можно будет лишь после тщательного изучения самих этих событий в свете приведенных данных, и это будет одним из итогов настоящего исследования.
На следующей ступеньке «военно-иерархической пирамиды» (по выражению украинской исследовательницы H. Н. Яковенко) стояли бояре. Этот термин проник в литовский язык из древнерусского, причем достаточно рано: уже в XIV в. источники, созданные на территории Тевтонского ордена, применительно к Литве передают его в форме Ьауоr , которая отражает литовское произношение (ср. в современном литовском языке bajoras — боярин, шляхтич, дворянин [342]. В ВКЛ XIV–XV вв. значение этого термина расширилось, он стал обозначать всех представителей слоя профессиональных воинов, соответствовавших западноевропейским рыцарям.
Понятно, что многочисленный социальный слой бояр не мог быть и не был однородным — ни в имущественном, ни в социальном, ни в правовом плане. На его верхушке стояли будущие паны. В русскоязычных документах этот термин в качестве боярского титула до 1430 г. встречается редко [343], но и самих этих документов in extenso и тем более в подлиннике сохранилось не так уж много. Гораздо больше до нас дошло латино- и немецкоязычных источников. По ним прослеживается стремление современников найти адекватный термин для обозначения боярской верхушки — от эпитетов, прилагаемых к слову «бояре» (большие, лучшие, высшие, старшие) [344], к титулу dominus (лат.) / herr (нем.), которому как раз соответствует прижившийся в западнорусском языке титул пан [345]. Носители названных титулов — это прежде всего литовские бояре, но подобные поиски велись и в отношении верхушки русского боярства (следует отметить, что документов, посвященных русским землям ВКЛ до 1430 г., сохранилось очень мало) [346]. Вероятно, уже в это время сложились черты, выделявшие формирующуюся группу панов из широких кругов боярства и известные по позднейшим данным. Верхушка боярства — это старая, родовитая знать, владеющая вотчинами, а не только выслугами [347]. Право на вотчину принадлежит не индивиду, а роду: боярин не мог распоряжаться ею без согласия родственников [348]. По-видимому, практика отчуждения земли отличала литовскую Русь от собственно Литвы: известно, что уже в конце XIV в. на Волыни бояре могли отчуждать свои вотчины, в том числе в пользу светских лиц, тогда как литовским боярам это право было даровано лишь привилеем Ягайла 1387 г. [349]Для характеристики боярства ВКЛ важно предположение H. Н. Яковенко, основанное на анализе топографии боярских владений в южной Руси, о происхождении их вотчин конца XIV — начала XV в. от «выслуг простых дружинников» домонгольской эпохи. Такие вотчины были небольшими [350], стало быть, их владельцы были заинтересованы в получении новых выслуг. В первой трети XV в. процесс накопления недвижимого имущества постепенно набирал силу, но при этом небольшие объемы этого имущества (если сравнивать их с размерами владений магнатов XVI–XVII вв.) не мешали его владельцам обладать определенным влиянием и сохранять его, несмотря на политические пертурбации. Трудно делать обобщающие выводы о том, как менялось их положение в XIV в. Но можно с уверенностью говорить, что и после событий конца XIV — начала XV в. жизнь, собственность и влияние сохранили полоцкие бояре Корсаки и купцы (впоследствии — местичи) Сорочковичи или смоленский боярский род Непролеевых, несмотря на репрессии Ягайла, Скиргайла и Витовта против полочан и смольнян [351]. Аналогичным образом ситуация складывалась на Волыни и Подолье, где уже во второй половине XIV в. влиятельное положение (несомненно, унаследованное от более раннего времени) занимали роды, представители которых действовали и в событиях первой половины XV в., — Кирдеевичи (Кирдеи) и, возможно, Корчаки [352].
Боярство было социально открытой группой, поскольку литовские князья привлекали к военной службе широкие слои населения [353]. Великокняжеское распоряжение о переходе того или иного человека от «тяглой» к военной службе было равнозначно пожалованию боярского статуса [354]. В XV в. такой человек получал землю, с которой должен был служить, либо «до воли и ласки господарской», либо на определенный срок, т. е. эти держания имели полностью условный характер [355]. В конце XIV–XV в. для обозначения представителей этого слоя распространилось слово «земяне», или «земляне» (лат. terrigenae ), а в конце XV в. — такие бояре стали также именоваться шляхтой [356]. Об имущественном положении этого слоя ярко свидетельствует эпизод из истории войн ВКЛ с Тевтонским орденом. Накануне одного из походов Витовт отдал распоряжение тем, у кого нет коней, для получения средств на их покупку продать жен и детей [357].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: