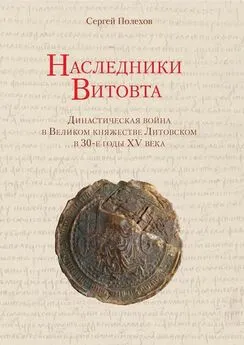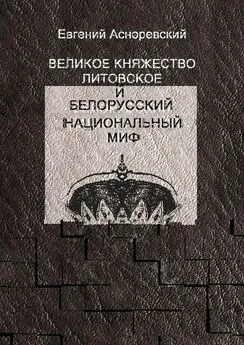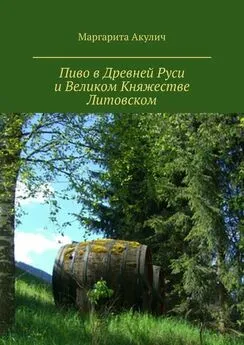Сергей Полехов - Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века
- Название:Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Индрик
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-366-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Полехов - Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века краткое содержание
Исследование основано на широком круге источников, многие из которых вводятся в научный оборот.
Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Важно, что о претензиях Гедиминовичей на удельные княжения помнили не только они сами, но и жители тех земель, где княжили они или их предки [324]. Память о былых княжениях жила даже в тех ветвях рода Гедиминовичей, представители которых не пытались противопоставить себя Витовту: так, сыновья Владимира Ольгердовича реализовали свои претензии на Киевское княжение в 1440/1441 г., а возможно, и раньше — около 1434–1435 гг.
Еще одну группу князей, которую следует рассмотреть отдельно, составляли православные князья Гольшанские и Друцкие. Первые происходили из литовской знати и, возможно, сам княжеский титул получили лишь в конце XIV в. (родоначальник Гольшанских Ольгимонт упоминается без него в источниках XIV в., в частности в договоре с Орденом 1379 г., который сохранился в подлиннике) [325]. Происхождение Друцких не до конца ясно: историки пытались выводить их и от литовских князей, и от Рюриковичей. Последняя точка зрения представляется более предпочтительной, но и в этом случае не удается проследить их род от конкретного Рюриковича, известного по источникам. Оба княжеских рода сохранили свои традиционные владения: Гольшанские — на северо-западе современной Белоруссии (кроме того, им принадлежали более мелкие владения, например какая-то часть волости Шешоли под Вилькомиром [326]), Друцкие — в Витебской земле. Эти роды объединяло и вместе с тем выделяло из числа других князей, не принадлежавших к потомкам Гедимина, их высокое положение в политической жизни государственного центра. Объяснялось оно тем, что и Гольшанские, и Друцкие состояли в свойстве с Витовтом [327]. Тем не менее представители обоих родов сохранили влиятельные позиции и после его смерти. Следует подчеркнуть, что свойство с великим князем еще не предотвращало возможных конфликтов (так, в 1393 г. Друцкие князья поддержали взбунтовавшегося Свидригайла, а в 1406-м Александр Гольшанский отъехал в Москву), но создавало предпосылки для возвышения.
Отдельно стоит остановиться на проблеме волынских князей. Проблематичным в данном случае является происхождение этих князей и, соответственно, их владений. Богатое документальное наследство Волыни начиная с середины XV в. фиксирует многочисленные княжеские роды, но, к сожалению, по большей части неизвестно, что делали их представители в интересующий нас период, каково было их положение в обществе Великого княжества Литовского. По сути, сведения имеются лишь об Острожских, Сангушках и Несвицких. Все они располагали достаточно крупными владениями. Но если происхождение Сангушек от Федора Ольгердовича точно известно, то о происхождении Несвицких и (в меньшей степени) Острожских в литературе продолжаются дискуссии. Сто лет назад Оскар Халецкий в своем блестящем труде [328]сформулировал вывод о неместном происхождении волынских княжеских родов середины XV в. Однако версия происхождения Несвицких от Корибута, которой он придерживался, выглядит неубедительно [329]. По всей видимости, не Гедиминовичами, а Рюриковичами были и Острожские. Как бы то ни было, от кого бы ни происходили Острожские и Несвицкие, — они располагали крупными владениями и были тесно связаны с Волынью. Великие князья литовские, с одной стороны, стремились этим воспользоваться, назначая их старостами луцкими (Федор Данилович Острожский в конце XIV в.) и подольскими (Федько Несвицкий в 30-е годы XV в.), с другой — пытались упрочить их связи с государственным центром [330].
Весьма разнообразным было положение Рюриковичей в государствах Гедиминовичей. Друцкие, например, достигли вершин влияния на общегосударственном уровне, но это был исключительный случай. В лучшем случае Рюриковичи сохраняли за собой старые владения (которые нередко рассматривались как выслуги — так обстояло дело, например, с Вяземскими князьями) и получали новые, но вряд ли могли претендовать на что-то большее. Очень широким был диапазон их имущественного расслоения — от тех же Вяземских, обладавших атрибутами «полусуверенных» правителей (двором, войском, собиравших налоги) до каких-нибудь князей Мунчей, уже в 40–50-е годы XV в. получавших, судя по «Книге данин Казимира», очень скромные пожалования. Лишь князья Новосильские и Одоевские сохраняли суверенные права и строили отношения с великими князьями литовскими на договорной основе. При этом в первой трети XV в. они еще колебались между Литовским и Московским великими княжествами: их связи с Литвой упрочились лишь после смерти Василия I в 1425 г., когда они присягнули Витовту [331].
Наконец, были и такие князья, которые приезжали в ВКЛ из соседних земель; одни из них задерживались там надолго, как Глинские, имевшие татарские корни; другие — на более короткий срок, как Андрей Дмитриевич Дорогобужский из тверской ветви Рюриковичей или Ярослав, сын Владимира Андреевича. Этот факт весьма важен, поскольку показывает, что, даже несмотря на значительные общественные, политические, конфессиональные, этнические и культурные различия между Великим княжеством Литовским и Северо-Восточной Русью, оно не было для князей этого региона чем-то абсолютно чуждым, они искали там приюта в трудные для них моменты [332].
К этой группе примыкали князья литовского происхождения, которые спорадически участвовали в общегосударственных акциях (заключении договоров с Польшей и Тевтонским орденом). Сюда относятся князья Свирские [333]и Гедройцкие, а также некий Юрий Довговд и его сын Глеб. Их владения были чрезвычайно малы.
В зависимости от фактического и правового положения различались права и обязанности разных категорий князей. Из докончаний Одоевских и Новосильских князей с Казимиром Ягеллоном выясняется, что они были обязаны уплачивать великому князю «полетнее», т. е. ежегодную плату [334]. От конца XIV в. сохранилось известие о выплате дани новгород-северским князем Дмитрием-Корибутом [335]. Это заставляет думать, что такие отношения существовали с князьями, получившими уделы от старших Гедиминовичей, и в конце XIV — первой трети XV в. Другой их обязанностью было участие в военных походах. На территории своих княжеств они обладали полусуверенными правами: жаловали и отбирали земли, располагали двором и т. д. Однако и сами великие князья, стремясь укрепить связи с этими землями, жаловали их жителям напрямую материальные ценности [336]. К сожалению, за XIV в. сохранились лишь отрывочные данные о распоряжении такими княжествами. Известно, что многие из них переходили по наследству, однако остается открытым вопрос, утверждалось ли (санкционировалось ли) такое наследование великим князем. По-видимому, без этого не обходилось: известно, что Кейстут перевел князя Патрикия с Городенского стола на какой-то другой [337]. Возможно, ситуация напоминала ту, что сложилась в XV в., когда удельный князь считал себя «отчичем» своего княжества, но его переход по наследству утверждался в Вильне [338]. Так, в начале 40-х годов Юрий Лугвеневич вспоминал, что после смерти его отца Свидригайло «записал» ему отцовское Мстиславское княжество [339].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: