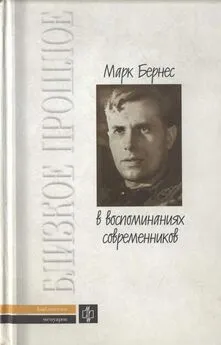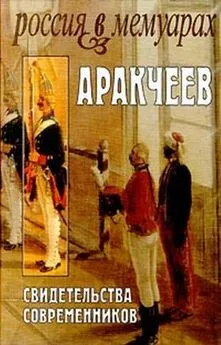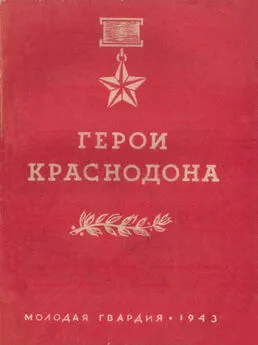Коллектив авторов Биографии и мемуары - Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников
- Название:Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1936
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов Биографии и мемуары - Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников краткое содержание
lenok555: исправлены очевидные типографские опечатки (за исключением цитат).
Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я знаю: дам хотят заставить
Читать по-русски; право, страх!
Могу ли их себе представить
С Благонамеренным в руках?
На беду свою, «Благонамеренный», по примеру других, потому что иного повода не было, вздумал подсмеяться над «Московским Телеграфом» и выбрал предметом насмешки стихотворение Пушкина: «Враги мои» и проч. Обыкновенным своим тоном он говорил: «У сочинителя есть и когти: у, как страшно!» Пушкин, видно, вспыхнул, прочитав эту пошлую насмешку, и тотчас прилетело к нам, по почте, собственною рукою его написанное:
Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал в свет без подписи своей;
Журнальный шут о них статейку тиснул
И в свет пустил без подписи-ж, злодей!
Но, что-ж? ни мне, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям узнал меня в минуту,
Я по ушам узнал его как раз!
Это окончательно сделало Благонамеренный неблагонамеренным в отношении к «Московскому Телеграфу» — по милости Пушкина. [446]
Так начались прямые сношения Пушкина с «Московским Телеграфом». Они обещали прочное знакомство: далее увидим, отчего не могло это исполниться […]
Года через три потом, Пушкин, разговаривая со мной о знакомом уже ему издателе «Московского Телеграфа», сказал, между прочим: «Я дивлюсь, как этот человек попадает именно на то, что может быть интересно!» […]
Пушкин, приехавший в Москву осенью 1826 года, вскоре понял Мицкевича и оказывал ему величайшее уважение. Любопытно было видеть их вместе. Проницательный русский поэт, обыкновенно господствовавший в кругу литераторов, был чрезвычайно скромен в присутствии Мицкевича, больше заставлял его говорить, нежели говорил сам, и обращался с своими мнениями к нему, как бы желая его одобрения. В самом деле, по образованности, по многосторонней учёности Мицкевича, Пушкин не мог сравнивать себя с ним, и сознание в том делает величайшую честь уму нашего поэта. Уважение его к поэтическому гению Мицкевича можно видеть из слов его, сказанных мне в 1828 году, когда и Мицкевич, и Пушкин жили оба уже в Петербурге. Я приехал туда временно и остановился в гостинице Демута, где обыкновенно жил Пушкин до самой своей женитьбы. Желая повидаться с Мицкевичем, я спросил о нём у Пушкина. Он начал говорить о нём и, невольно увлёкшись в похвалы ему, сказал, между прочим: «Недавно Жуковский говорит мне: знаешь ли, брат, ведь он заткнёт тебя за пояс». — «Ты не так говоришь,— отвечал я: — он уже заткнул меня». В другой раз, при мне, в той же квартире, Пушкин объяснял Мицкевичу план своей ещё не изданной тогда Полтавы (которая первоначально называлась «Мазепою»), и с каким жаром, с каким желанием передать ему свои идеи старался показать, что изучил главного героя своей поэмы. Мицкевич делал ему некоторые возражения о нравственном характере этого лица […]
В суждениях о литературных предметах высказывал он [Мицкевич] всегда оригинальное своё мнение, но всё возвышенное и прекрасное ценил высоко и не останавливался на мелких недостатках. Однажды, кто-то при нём стал указывать на разные слабые стороны нашего Пушкина и обратился к Мицкевичу, как бы ожидая от него подтверждения своего мнения. Мицкевич отвечал: «Pouchkine est le premier poète de sa nation: c’est là son titre à la gloire» (Пушкин первый поэт своего народа: вот что даёт ему право на славу). […]
Во время пребывания Мицкевича в Петербурге была напечатана поэма его Конрад Валленрод . Многочисленный круг русских почитателей поэта знал эту поэму, не зная польского языка, то есть знал её содержание, изучал подробности и красоты её. Это едва ли не единственный в своём роде пример! Но он объясняется общим вниманием петербургской и московской публики к славному польскому поэту, и как в Петербурге много образованных поляков, то знакомые обращались к ним и читали новую поэму Мицкевича в буквальном переводе. Так прочёл её и Пушкин. У него был даже рукописный подстрочный перевод её, потому что наш поэт, восхищённый красотами подлинника, хотел, в изъявление своей дружбы к Мицкевичу, перевести всего «Валленрода» своими чудесными стихами. Он сделал попытку: перевёл начало «Валленрода», но увидел, как говорил он сам, что не умеет переводить, то есть не умеет подчинять себя тяжёлой работе переводчика. Свидетельством этого любопытного случая остаются прекрасные стихи, переведённые из «Валленрода» Пушкиным, не переводившим ничего […] [447]
Можно ручаться, что в душе его не было никакого озлобления против России, и Пушкин очень верно изобразил отношения Мицкевича к русскому обществу, с грустным чувством вспоминая о нЁм в 1834 году:
Он между нами жил,
Средь племени ему чужого; злобы
В душе своей к нам не питал он; мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами,
И песнями (он вдохновлён был свыше
И с высоты взирал на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта. Он
Ушёл на Запад — и благословеньем
Его мы проводили […]
Почти в это же время поселился в Москве и сблизился с нами Евгений Абрамович Баратынский […]
Баратынский пользуется славою поэта, и справедливо. У него были и поэтические ощущения, и необыкновенное искусство в выражении. Но, знавши его очень хорошо, могу сказать, что он ещё больше был умный человек, нежели поэт. Отчасти он обязан поэтическою славою своею Пушкину, который всегда и постоянно говорил, что Баратынский чудесный поэт, которого не умеют ценить. Почти то же говорил он о Дельвиге, и готов был иногда поставить их обоих выше себя. Трудно понять, что заставляло Пушкина доходить до таких преувеличений. Правда, что он называл Баратынского одним из лучших своих друзей; но дружба не могла ослепить необыкновенной его проницательности. Говорили, что он превозносил Дельвига и Баратынского, чтобы тем больше возвысить свой гений, потому что если они были необыкновенные поэты, то что же сказать о Пушкине? Может ли быть какое-нибудь сравнение между ними и им? Но я не предполагаю такой мелкой хитрости в нашем великом поэте. Он превозносил Катенина, и даже написал о нём:
… Катенин воскресил
Корнеля гений величавый!
Но это были странности, какие-то прихоти умного человека, может быть, первоначально порождённые уважением или дружеским чувством его к людям, близким к нему по обстоятельствам жизни. Как бы то ни было, но авторитет Пушкина, конечно, способствовал повторявшемуся безотчётно мнению, что Баратынский поэт, по достоинствам своим близкий к самому Пушкину. Теперь, кажется, излишне было бы опровергать такое мнение. Баратынский поэт, иногда очень приятный, везде показывающий верный вкус, но писавший не по вдохновению, а вследствие выводов ума. Он трудился над своими сочинениями, отделывал их изящно, находил иногда верные картины и живые чувствования; бывал остроумен, игрив, но всё это, как умный человек, а не как поэт. В нём не было ни поэтического огня, ни оригинальности, ни национальности. Оттого-то лучшие его произведения те, где он философствует, как, например, в стихотворении на смерть Гёте. Я уверен, что если бы он не почитал себя поэтом и занялся теориею и критикою литературы, он написал бы в этом роде много умного, прекрасного, пояснил бы много идей для своих современников. Его ясный ум, строгий вкус, сильная и глубокая душа давали ему все средства быть отличным критиком. Это показывали суждения его о многих тогдашних литературных явлениях, суждения, которые развивал он в нашем кругу. Когда приехал в Москву Пушкин и начали появляться одно за другим сочинения его ( Цыганы , 2-я глава Онегина и много лирических стихотворений), поговорить было о чём, и Баратынский судил об этих явлениях с удивительною верностью, с любовью, но строго и основательно. В поэмах слепца Козлова не находил он никаких достоинств и почти сердился, когда хвалили их, хотя отдавал справедливость некоторым его стихотворным переводам. Кажется, и потомство подтверждает эти суждения. Он не был фанатиком ничьим, ни даже самого Пушкина, несмотря на дружбу свою с ним и на похвалы, какими тот всегда осыпал его […]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: