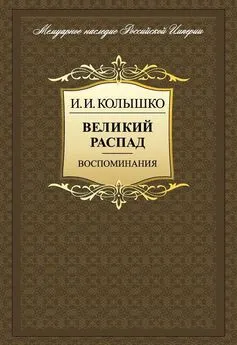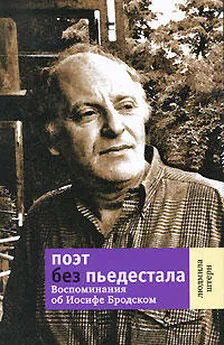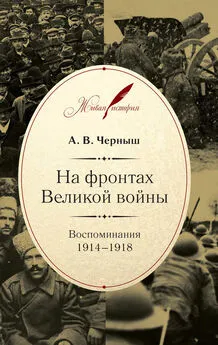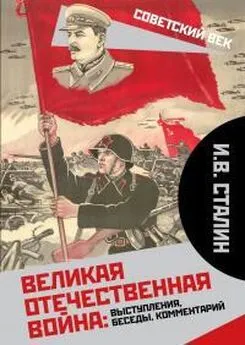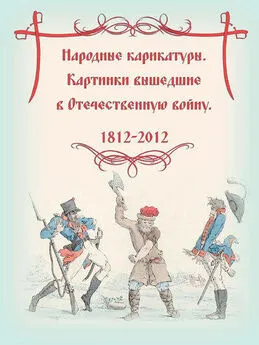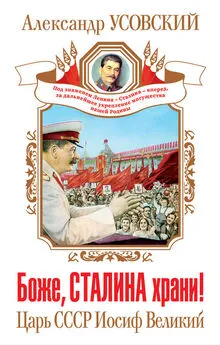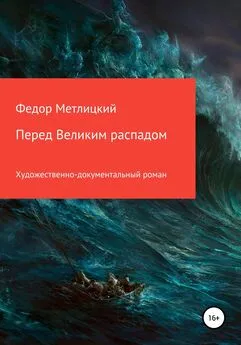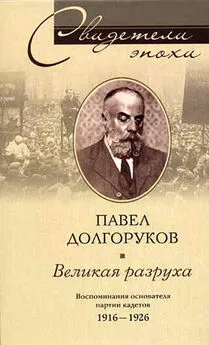Иосиф Колышко - Великий распад. Воспоминания
- Название:Великий распад. Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Нестор-История
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-59818-7331-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Колышко - Великий распад. Воспоминания краткое содержание
Великий распад. Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однажды, в припадке злобы, Витте мне сказал:
– Мещерский вздрючивает волю царя. Это – самое большое его преступление. И это кончится катастрофой…
Не нужно, однако, было быть Витте, чтобы прозреть в будущее. Взвинченная царская воля стала обращаться против тех, кто ее взвинчивал. После назначения Плеве царь пишет Мещерскому: «Теперь я могу спать спокойно, имея такого друга, как ты». А немного спустя: «Я, наконец, уверовал в себя… Мы заключили с тобой оборонительный и наступательный союз». Но, когда Мещерский предостерегал его от безобразовской авантюры на Ялу, царь обрывает его: «Не могу же я исполнять все твои советы и желания… Я – царь» 456… Дозы мускуса, как известно, надо увеличивать. Если бы Мещерский следовал этому закону и санкционировал безобразовщину и распутинщину, влияние его, пожалуй, стало бы неограниченным. Но в этом старом шептуне проснулся «оппозиционер», а, может, и просто патриот. Против Безобразова, а впоследствии и против Распутина, он резко встал на дыбы. И… сломал себе шею.
Последним его «насилием» над волей царя было заступничество за Витте. Этот ненавистный царю временщик, не поднимавший, а угнетавший дух монарха, был обречен. Плеве с Безобразовым уже настояли на его отставке. Она уже лежала на царском столе. Витте взмолился в Гродненском переулке, и старый князь ринулся в опасную борьбу. Он победил – победой Пирра. Позорная отставка была заменена милостивым рескриптом 457. Мещерский сломил Плеве, но сломил и царево сердце. Николай уже не простил ему этого «насилия». Витте он все-таки выгнал, а Мещерский из шептунов интимных попал в шептуны почетные. Настала эра Распутина.
Третье и последнее пришествие Мещерского совпало с зенитом распутинского бесчинства, года за два до великой войны. (Звеном нового сближения его с Царским был на этот раз адмирал Нилов, флаг-капитан царя). Это последнее пришествие одряхлевшего шептуна принесло ему больше горя, чем радости, России же подарило таких министров, как Маклаков, уготовивший путь для Штюрмера, Хвостова и Протопопова. Пожиная плоды своих трудов, Мещерский в это пришествие уже не допингировал, а сдерживал царя, миря его с создавшейся внутренней и внешней обстановкой. Осторожно донося до могилы хрупкий сосуд своей жизни, он ощущал эту хрупкость и в самодержавном режиме. Только бы не споткнуться, только бы о что-нибудь не удариться, – таков был его лозунг для себя и для России. Но перед ним были два порога, о которые могли споткнуться и он, и царь, и Россия: Распутин и война. Не вступая со «старцем» в открытую борьбу, он всячески отжимает от него царя. В вопросе же войны стремительно становится поперек ее. Недаром же в Германии верят, что войны не было бы, если бы жил Мещерский.
Ее, кажется, и впрямь бы не было, проживи старик еще хоть год. Войну, как известно, накликали – в правительстве – Сухомлиновы, в Думе – Гучковы, в печати – «Новое время» и частью «Русское слово». Война еще, пожалуй, нужна была социалистам бурцевского толка и циммервальдовским большевикам 458. Те мотивы, что руководили Плеве в 1903 г., теперь отсутствовали. Авантюр, влекших к войне, тоже не было. Была общая возбужденность, ожидание перемен, и было доносившееся из Европы предчувствие катастрофы. Это предчувствие особенно воспринял уже шагавший в гроб царехранитель. Все его «дневники» последних до войны лет и все письма к царю были полны предостережениями и мольбами. Он готов был вынести серию Распутиных и сотню Дум, чтобы избавить Россию от одной войны. Как пламя догоравшей свечи, как песнь лебедя, он трепетал последними блестками таланта, последними взмахами темперамента, убеждая царя в необходимости мира.
В июле 1914 г., когда уже веяло грозой, он бросился в Петергоф. После двухчасовой аудиенции он вышел из дворца весь мокрый (была тропическая жара), но сияющий.
– Войны не будет, государь дал мне честное слово…
Это было его последнее торжество. Поездка стоила ему простуды, простуда – жизни. Он умер в день объявления Сербии австрийского ультиматума 459. Судьба пощадила этого много нагрешившего, но и много настрадавшегося типичного двойника российского распада – до революции и большевиков он не дожил.
Историческая роль кн[язя] Мещерского начинается с 1883 г. и продолжается с перерывами почти до 1914 г., т[о] е[сть] более четверти века. Очевидно, не все события этой эпохи должны быть отнесены к его влиянию, но главнейшие из них, так или иначе, не обошлись без этого влияния. Возобновив свои дружеские отношения с Александром III после его коронации, он идет сначала в фарватере двух сильнейших министров той эпохи, гр[афа] Д. Толстого и гр[афа] Делянова, не говоря уже о Победоносцеве. Вместе с этим трио он укрепляет царя в его воззрениях на режим, на роль русского дворянства, русской школы и православной церковности, не одобряя, впрочем, эксцессов Победоносцева в отношении к иноверцам. Но в споре Победоносцева с Деляновым и насаждении церковно-приходских школ становится на сторону первого. Главной заботой его делается сохранение экономически таявшего дворянства и его влияния на народную жизнь. В этих видах он вдохновляет гр[афа] Толстого на его проект о земских начальниках, и только благодаря его энергичной поддержке эта непопулярная даже для того времени мера одобряется государем вопреки мнению подавляющего большинства Государственного] совета. Покончив с этим, он, после смерти гр[афа] Толстого, убежденного классика, обрушивается на классицизм и всячески содействует утверждению образования профессионального. После университетских беспорядков он способствует назначению министром народного просвещения сначала ген[ерала] Ванновского, засим Зенгера. Предложенный ему самому пост министра народного просвещения он отклоняет. Вообще, до назначения Витте, мировоззрение его довольно цельно и вполне гармонирует с мировоззрением императора Александра III. Только во взглядах на внешнюю политику царь и его ментор расходятся. Такой же миролюбец, как и царь, ментор полагает в основу этого миролюбия Германию, а царь, как известно, положил в основу его Францию. Но тут Мещерскому не удалось победить влияния императрицы Марии Федоровны и датского двора: оттолкновение Александра III после Берлинского трактата от Бисмарка непоборимо 460. Для Александра III пруссаки все еще остаются «свиньями», для Мещерского же они – опора русского самодержавия. Но и здесь, под влиянием своего ментора, царь значительно смягчил свою германофобию и не препятствовал Витте, при введении им винной монополии, сделать крупные льготы балтийскому дворянству. (Дворянство это коллективно Мещерского за это благодарило). Франкофильство Александра III, вытекающее из его германофобства, Мещерский сдерживал в пределах, весьма ощутимых в Париже. Об этом знали и Ганато, и Карно 461, все время не без тревоги оглядывавшиеся на Петербург. А когда, однажды, в своем «Гражданине» Мещерский обозвал французского посла в Петербурге (Луи 462) парикмахером или чем-то в этом роде, царь ограничился лаконической запиской к нему: «Легче на поворотах!».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: