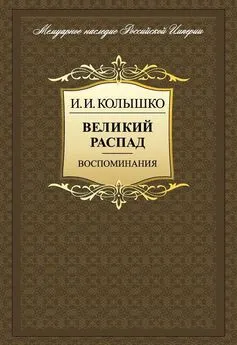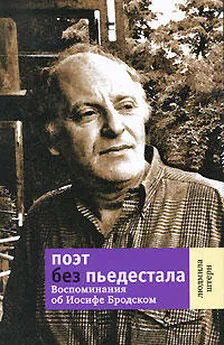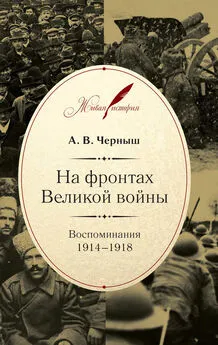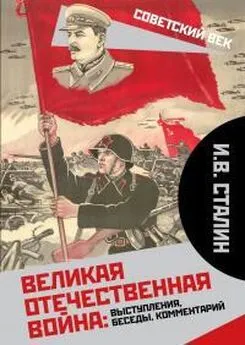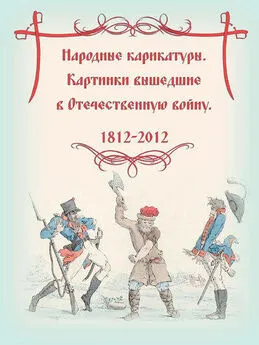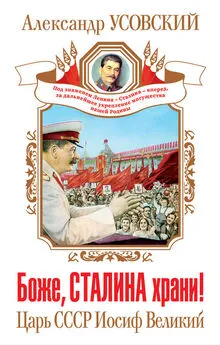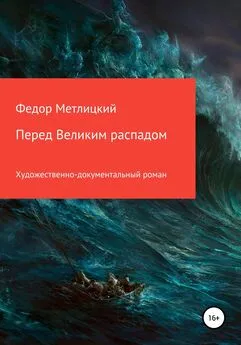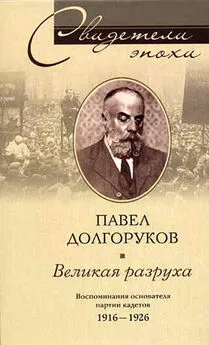Иосиф Колышко - Великий распад. Воспоминания
- Название:Великий распад. Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Нестор-История
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-59818-7331-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Колышко - Великий распад. Воспоминания краткое содержание
Великий распад. Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Был он талантопоклонником, но в тайниках души был и нигилистом. Карамазовский тезис: «если нет Бога, я – бог», был и его тезисом. Вряд ли он это точно формулировал, ибо вопросами бытия не задавался. В нем не было ни малейшей философской мысли и ни малейшего искательства. Есть ли, нет ли – это его не волновало. Относилось это и к Богу, и к черту, к царю и к цареубийце, к жизни здешней и нездешней. Но в жизни здешней его заворожила сила. А силу он видел не только в деньгах, но и в таланте. И даже больше в таланте.
Суворин искренно боготворил корифеев русского таланта. Выше всех богов для него были Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой. Не ради чванства создал он славу Чехова, готов был плестись и в хвосте Горького. Суворинский театр (Малый) 536стоил ему бешеных денег; обкрадывали его на каждом шагу. Он кряхтел, ругался, плевался, но мошны не зажимал, – хозяйничал в этой мошне, как и в его доме, как и в его душе, талант. Но, по мнению Суворина, русский талант переметнул справа налево, переметнул туда, где давно, с дней его рождения в мужицкой семье на р. Битюге (Воронежской губ.), с первых шагов его в роли сельского учителя была его душа.
Суворин это осознал в эпоху высшего успеха «Нов[ого] вр[емени]», успеха, созданного не приближением, а удалением от берегов родного Битюга и от свободы родных степей. Чем более его плоть погружалась в хлябь «чего изволите», тем бурнее рвалась из нее душа. Трагедия начиналась с утра, когда, разбирая газеты, он жадно впитывал в себя мысли левые и с отвращением морщился над мыслями правыми. Он пристально вглядывался в «тот берег», жадно ища там признаков бунта. А если признаки эти случайно проявлялись на «сем берегу» (в «Гражданине]» Мещерского, в газете Грингмута, Маркова, Пуришкевича), – он и им аплодировал. Бунт заряжал его на целый длинный день, когда он переваливался с боку на бок, как медведь, в своей роскошной берлоге, принимая людей таланта и тупиц, министров и поднадзорных, блудословя, подзадоривая, провоцируя, выпытывая, собирая и выпуская свое паучье жало, то хихикая, то по мужицки бранясь, балансируя между враньем и правдой, между жадностью и расточительностью, между паучьей злостью и нараспашку добротой. И так до поздней ночи, до утра. Стряпая очередной № талантливой лжи «Нов[ого] вр[емени]», он, как вор, с этой стряпней прятался.
Трагедия настигла его и в семье. Микроб бунта по наследству передался лишь его второму сыну. Неумный и неталантливый, он, участвуя в составлении газеты, стал тянуть за ее левую вожжу. Для выправления крена старик тянул за правую. Начались стычки, тем более для старика чувствительные, что душой он был всецело с бунтовщиком. Однажды глубокой ночью, когда сын, вопреки его распоряжению, поставил в набор какую-то бунтарскую статью Розанова, старик в халате перешел улицу, забрался в типографию и разбросал набор розановской статьи. Сын рассвирепел и поднял на отца палку. Так, с поднятой палкой, он гнался за удиравшим через улицу отцом. А на утро порвал с «Нов[ым] вр[еменем]». И основал свою газету «Русь» 537. Газета эта, ярко левая, громила «Нов[ое] вр[емя]». Но деньги на издание ее давал старик. И смаковал ее статьи.
Очаровательный юноша, которого он женил на своей внучке, был из нелегальных. Когда его приговорили в казни (или к ссылке), он обратился за спасением к Суворину. Некоторое время старик находился под его влиянием. Но юноша предпочел суворинские миллионы суворинскому бунту. После «скандала» с сыном и разочарования с внуком старик старался заглушить драму своей души возней с деньгами. Но даже в самые острые моменты этой возни, завязая в болоте, разведенном Гучковым и Снессаревым, в длинные бессонные ночи он мечтал о нищей, но привольной жизни на «том берегу» российской юдоли. Самый сервильный орган русской мысли питался самым типичным русским бунтарем.
Была историческая ночь. На Эртелевом собрались представители всех газет и обменялись Аннибаловой клятвой538: напечатать знаменитый манифест печати в 1905 г. К старику бегал сын, старик ломался. Но клятву дал. Ночью звонил Витте, и манифест в «Нов[ом] вр[емени]» не появился 539. Это была самая мрачная страница из жизни Суворина. И этого он не простил Витте: последний удар в падавшего льва был нанесен из Эртелева.
Суворин был типичный русский двойник. По натуре он ближе к Ленину, чем к Герцену, по таланту – ближе к последнему. Не перешагни он с ялика на рысаков, с Васильевского на Эртелев, в Суворине Россия обрела бы, вероятно, ярого революционера, может, и большевика.
– Ах, если бы я был с ними, – говорил он, поникая своей патриаршей головой.
И, кажется, только в эти минуты он был искренен, знал, чего хотел. Но на его таланте и на его искренности висела гиря Эртелева – эти 5 этажей, заселенных семейной саранчой, пожиравшей и его талант, и его средства: бездарное, бесшабашное, пьяное потомство гениального мужика с Битюга.
Когда говорили о Боге, Суворин лукаво ухмылялся:
– Есть ли, нет ли – не знаю. А к заутрене езжу на всякий случай…
Когда говорили о царе, он бесился:
– Собственно говоря, зачем нам царь? Одни безобразия от него. И от его бездарных министров… И от прогнившей бюрократии… И все такое. Но, черт его знает, – как же без царя? А министры все же образованные… И чиновники лучше разночинцев… Россия без них развалится…
Утерший немало слез и устранивший немало нужды, с замашками барина, этот «мужик» был скопидомом: его заставали отвинчивавшим лампочки, чтобы даром не жгли электричество. Подняв на беспримерную высоту плату за журнальный труд и безжалостно эксплуатируемый, он бесился из-за лишней бутылки содовой, выпитой в редакции. И любимым, укромным занятием его было считать гроши, заработанные им за пьесы 540. Это были егоденьги, а в редакции в это время раскрадывали и растрачивали сотни тысяч.
Суворин с его «Нов[ым] вр[еменем]» – эпоха. Много зла натворил старик. Но русский талант имел в нем рыцаря. И величие, слава России, по-своему понятые, обслуживались не за страх, а за совесть его злым талантом и раздвоенным сердцем.
Глава ХХI [108] Далее зачеркнуто: Из книги «Ныне отпущаеши».
Сытин
Газетное издательство в последние 25 лет царского режима держалось на трех китах: Суворине, Сытине и Проппере. О последних двух можно говорить лишь как о типичных захватчиках органов общественного мнения, лишенных какого-либо ценза, почти безграмотных и, тем не менее, долгие годы игравших роль «хозяев» в предприятиях, где орудовали люди таланта, высшего образования, представители и вожди политических течений: «Русск[ое] слово» и «Бирж[евые] ведомости]» принадлежали людям, едва умевшим сложить фразу и во всякое время готовым променять издательство на кафе-шантан. В ряде хаотических явлений, приведших Россию к распаду, кажется, это не было последним.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: