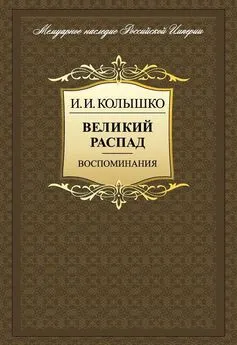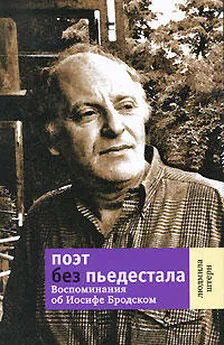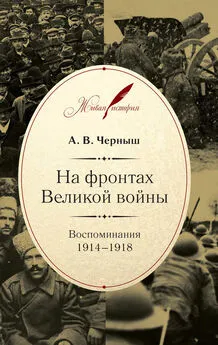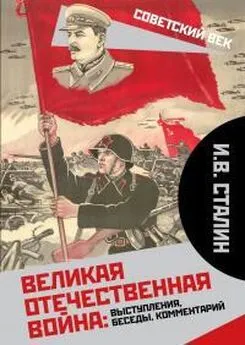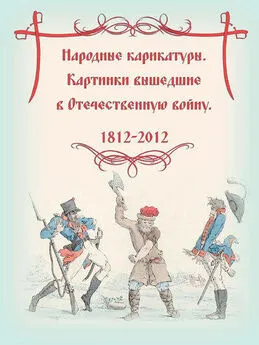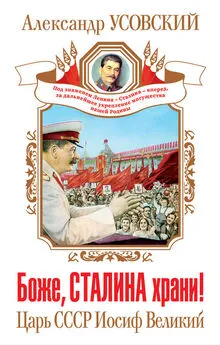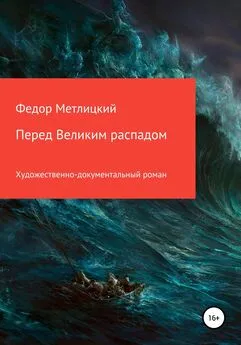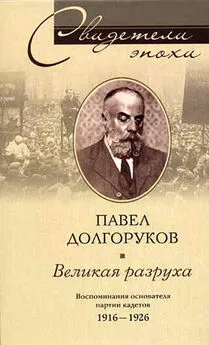Иосиф Колышко - Великий распад. Воспоминания
- Название:Великий распад. Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Нестор-История
- Год:2009
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-59818-7331-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Колышко - Великий распад. Воспоминания краткое содержание
Великий распад. Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Лет 60 тому назад в Москве у книжного ларя на Никольской хлопотал босоногий мальчонок – Сытин. Востроглазый и востроносый, он начал с чайника (таскал из трактира кипяток) и вскоре стал главным приказчиком. В ту пору, да и до последнего времени, сеятелями просвещения в народе были офени (книгоноши). Их была целая армия и центром их сборищ были Москва и Нижний. Офени играли в книжном деле роль откупщиков в винном: каждый работал в своем районе. Товар они покупали тоже у своих продавцов. Офеня был главным и лучшим покупателем на русском книжном рынке. И потому ладить с офеней значило в этом деле преуспеть. Свой успех на жизненном пиру Сытин начал с успеха среди офень: никто лучше его не умел «уважить» покупателя, никто дольше его не сгибал спины в поисках за ходкой книжонкой, никто не расписывал так витиевато ее содержания.
– Золотое было времячко, – рассказывал Сытин уже миллионер. – Работал и мозгом, и спиной… Я им про книжку, а они мне про народ… Вот и познал. С душой народа беседовал… Вся моя мудрость оттелева… Ни газеты, ни типографии, ни миллионов не было бы без народу… И служу ему, как умею…
Всего за год до большевиков Сытин праздновал свой издательский юбилей, праздновал его в роскошном особняке на Тверской, среди сонма почтительно склоненных старейшин купеческой и сановной Москвы. С приветом приезжал сам градоначальник; прислал телеграмму царь. К этому юбилею материальное могущество Сытина выражалось: в громаднейшей типографии на Пятницкой, одной из самых больших в Европе (в ней работает теперь большевистское госиздательство); в самой распространенной (с миллионным тиражом) газете «Русское слово», в самом большом по количеству выпускавшихся книг русском издательстве с огромными складами и магазинами во всех центрах России. Сытин снабжал стомиллионный русский народ народными изданиями, рисунками, календарями. Царь знал, что делал, поздравляя властителя народных дум и «хозяина» плеяды талантов, во главе с Дорошевичем и Горьким…
Про Сытина Витте говорил:
– Торгует общественным мнением…
Но Сытин был выше этого отзыва. С лукавством, жадностью и жестокостью замоскворецкого кота он соединял Бог весть откуда прихваченную чуткость русского интеллигента, смелость пионера и задор крупного игрока. Как и у его конкурента – Суворина, у этого почти безграмотного мужика была страсть к талантам. Он тоже по-своему, по-мужицки был огнепоклонником. И даже, пожалуй, более искренним, чем Суворин, ибо в нем не было зависти к таланту. А как он его вылавливал, распознавал, – это уж почти сказка. Сытин оценивал талант почти как Перлов чай – на нюх и на ощупь. Ему вовсе не нужно было чужое мнение, создавшаяся уже слава, – он подбирался к таланту на цыпочках, когда у того еще не было славы, когда талант был еще тих и скромен, и, подкравшись, ласкал его, покуда за грош не покупал.
Если бы Сытина разбудить ночью:
– Иван Дмитриевич, в Сольвычегодске талант объявился…
Сытин оделся бы и с первым поездом укатил в Сольвычегодск. И там душил бы «талант» до тех пор, пока не соскреб бы его в платочек, как ежа, и не привез в Москву.
Их разновидности импонировали этому самородку: министр и талант. Перед тем и другим он гнулся и трепетал. Но министров он не любил, а талант обожал.
Между властью и Сытиным установились отношения, не похожие на отношения с властью Суворина и Проппера: перед Сувориным власть откровенно приседала, Проппера откровенно презирала; а с Сытиным не знала, как быть. Наезжая в Петербург, а он наезжал туда все чаще – Сытин обязательно являлся к какому-нибудь министру или по меньшей мере сановнику. И происходило следующее: министр или сановник, когда ему докладывали о визите хозяина «Русск[ого] слова», подтягивался. После «Нового времени» самым грозным бичом для бюрократии было «Русское слово». А не было сановника, у которого с этой газетой не было бы старого счета или видов на будущее. Сытина принимали не в очередь.
Но вот он являлся с бесчисленными поклонами, ужимками, дрожанием челюстей и нечленораздельной речью:
– Ваше превос… Ваше высокопревос… Ваше сиятель…
Перед этим зрелищем сановник сначала недоумевал, потом, убедившись, что
Сытин не ломает комедь, а подлинно трусит, становился нагл:
– Что это у вас, почтеннейший, печатается в газете?…
– Ваше высоко… Ваше снят… Верите ли, ничего не могу поделать с энтой оравой… Они меня в гроб вгонят… Ей-ей!… Возьмите их от меня… Таланты эти… Бог с ними…
Получив, что нужно, Сытин выходил пятясь, кланяясь, захлебываясь, но за дверью мгновенно выпрямлялся и бормотал:
– Ишь, скотина… Ажно в пот вогнал…
А соответствующему сотруднику давал приказ:
– Жарь его в хвост и в гриву… Больше 30-ти тысяч штрафов уж мне он стоит… Жарь еще на 3 тысячи… Я те покажу Сытина…
Привязавшись к таланту, как к «товару», овеянный его радужными крыльями, зажженный его огнем, в постоянной борьбе с ним как купец, и в постоянной погоне за ним как спортсмен, – этот первый по оборотам в России издатель, не умевший написать грамотного письма, взмахнул от прилавка к Олимпу, связав их единым, сытинским объятием. От офень он перескочил прямо к Горькому, Чехову, Андрееву, Куприну, Бунину, Мережковскому, Дорошевичу и проч. Гнул перед ними и спину, и душу, как перед офеней, чтобы так же, как офеней, овладеть ими и заставить на себя работать. И работал русский талант на Сытина, как работал он на Суворина и Проппера, а раньше на Краевского, Каткова, Пастухова, Липскерова и других откупщиков русского дарования…
Сходство Сытина с Сувориным – этих двух мужиков разной культуры – шло глубже. Сытин был тоже типичным российским двойником, вечно метавшимся между двумя полюсами и двумя правдами. Для него не существовала (или очень поверхностно существовала) политика; но у него было специфически российское «нутро», тянувшее его в две противоположные стороны. Его манил идеал святости, но его тянул и грех. Его мысль реяла в великих зданьях человечности и общественности, а купеческий инстинкт тянул к прилавку. Его взмах был широк, а прикосновение узко и мелочно. Щедрый на громкие затеи, он с глазу на глаз выжимал гроши, был подлинно кулаком в отношениях с закабаленными себе «талантами». И у него был свой Меньшиков, которого он ненавидел и боялся – Влас Дорошевич. Только перед Дорошевичем, да еще перед Горьким, раскрывалась его мошна. Других сотрудников, создавших успех «Русского слова», не исключая Немировича-Данченко, которому газета была больше всех обязана (как военному корреспонденту) 541, он безжалостно теснил.
Сытин смолоду готовил себя в монастырь. Носил вериги, власяницу, ночами простаивал в кремлевских святынях, лоб расшибал в поклонах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: