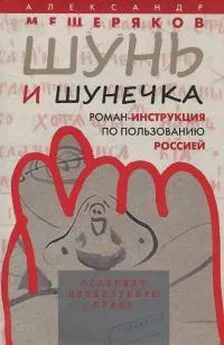Александр Мещеряков - Основные параметры японской цивилизационной модели
- Название:Основные параметры японской цивилизационной модели
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2006
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мещеряков - Основные параметры японской цивилизационной модели краткое содержание
Основные параметры японской цивилизационной модели - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для японского типа личности характерна очень высокая степень рефлексии. Однако самоанализ направлен не столько на осуществление собственных желаний, сколько на то, чтобы подавить их и более адекватно вписаться в социальную структуру, занять свое функциональное место в групповой иерархии. Человек оценивается, прежде всего, не по успеху, а по тому, как он исполняет свою социальную роль (в семье, общине, профессиональной группе, государстве) — норма, закрепленная и терминологически оформленная под влиянием конфуцианства. То есть человек в значительной степени оценивается не с точки зрения результата, а с точки зрения степени вовлеченности в процесс.
Однако не раз подмеченная исследователями склонность к групповому поведению отнюдь не означает нивелирования личности и ее «примитивизации», о чем свидетельствует, в частности, весь корпус японской литературы. Скрупулезная разработка тончайших душевных движений видна по крайней мере с периода Хэйан. Европа этого времени не знает адекватных аналогов произведениям Мурасаки Сикибу («Повесть о Гэндзи», «Дневник»), Сэй-сёнагон («Записки у изголовья»), Кэнко-хоси («Записки от скуки») или безымянного автора «Путаницы» («Торикаэбая моногатари»). Одним из ярчайших проявлений тенденции к объективированию внутреннего мира является существенный литературный пласт поджанра «я-повествования» (ватакуси сёсэцу), который в повествовании от первого лица во главу угла ставит исследование внутреннего мира автора (поздним аналогом этого типа литературы на Западе становится литература «потока сознания). Современная массовая литература тоже в целом подтверждает склонность героя не к действиям, а к самоанализу.
Вместе с тем необходимо отметить, что в японской литературе конфликт между интересами личности и группы занимает одно из центральных мест. При этом нормативным выходом из этой ситуации является сознательный, отрефлексированный выбор в пользу группы, символическим заменителем которой часто служит ее лидер (глава семьи, соседского или профессионального объединения, государства).
Согласно синто, каждый человек (при условии наличия у него детей) получает со своей смертью статус «предка» и становится объектом поклонениия. Решительный акцент, поставленный японским буддизмом на возможности достичь просветления «в этом теле», в значительной степени объясняется именно этой установкой синто. В связи с этим следует заметить, что влияние синто на все области духовной жизни остается, на наш взгляд, недооцененным. Это объясняется тем, что текстовая деятельность протекала в Японии преимущественно в терминологических и организационных рамках буддизма и конфуцианства. Тем не менее основные установки синто, даже и не облеченные в письменную форму (синто не является религией с упором на письменные тексты, а традиция в значительной степени передается устно), сыграли чрезвычайно существенную роль в деле формирования и развития японской культуры. В своем «телесном» измерении ритуал представляет собой строго фиксированную последовательность действий, жестов, поз и дискурса. Озабоченность верной передачей ритуала сказалась на повседневном поведении японцев, для которого свойственна высокая степень церемониальности, формализованности и упорядоченности. При попадании в ситуацию, в которой поведение, то есть строгая последовательность действий, не было определено (известно) заранее, такой тип личности оказывается зачастую беспомощным.
Примечания
1
Цит. по: А. В. Филиппов. 1998. Стостатейные установления Токугава 1616 г.; Он же. Кодекс из ста статей 1742 г. Право, общество и идеология Японии первой половины эпохи Эдо. Издательство С.-Петерб. университета. Ст. 68: 29.
2
Токоро Исао. 1992. Нэнго-но рэкиси. Токио: 11.
3
На русский язык переведены две из них: Кокинвакасю. Собрание старых и новых песен Японии / пер. А. А. Долина. СПб.: «Гиперион», 2001. Синкокинсю. Японская поэтическая антология в двух томах / пер. И. А. Борониной. М.: «Coral Club International», 2000.
4
Утаавасэ. Поэтические турниры в средневековой Японии / пер. И. А. Борониной. СПб.: «Гиперион», 1998; Диалоги японских поэтов о временах года и любви. Поэтический турнир, проведенный в годы Кампё (889–898) во дворце императрицы / пер. А. Н. Меще-рякова. М.: «Наталис», 2002.
5
Donald Keene. 2002. Emperor of Japan. Meiji and His World, 1852–1912. Columbia University Press, New York: XII.
6
Подр. см.: Мещеряков, А. Н. 1996. Любовный код раннеяпонской культуры. Невербальное поле культуры. Тело, вещь, ритуал: 5–9. М.: РГГУ.
Интервал:
Закладка: