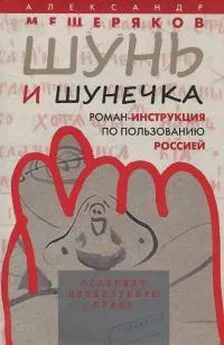Александр Мещеряков - Основные параметры японской цивилизационной модели
- Название:Основные параметры японской цивилизационной модели
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2006
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мещеряков - Основные параметры японской цивилизационной модели краткое содержание
Основные параметры японской цивилизационной модели - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Поэтика расставания и увядания до сих пор является ведущей даже в произведениях массовой японской культуры (эстрада, кино, литература и пр.). Она явлена, в частности, в том «повышенном» внимании, которое уделяют ее творцы темам несчастной любви, болезням своих героев, которые столь часто изображаются на больничной койке на пороге смерти. Задача писателя — «изолировать» героя (поместить его в больницу, ящик, камеру, пещеру, яму, скрыть лицо маской), поставить его в ситуацию, когда он находится наедине с самим собой и способен без всяких помех предаться размышлениям и воспоминаниям. Малая пространственная активность персонажей японской прозы приводит к тому, что она лишена (на европейский вкус) фигуры полноценного «героя», основным параметром которого является двигательная активность.
Японская поэзия характеризуется также своеобразным методом порождения. Оно должно быть спонтанным, обычно — устным, часто — коллективным (обмен стихами между влюбленными, поэтические турниры, стихотворная переписка, сессии сочинителей хайку), что накладывает отпечаток и на прозу, характеризующуюся, в частности, ослабленным сюжетом. Кисть японских прозаиков очень часто «бежала» впереди «продуманной» мысли (см., в частности, эссеистический жанр дзуйхицу — «вслед за кистью»). То есть к традиционной прозе также в полной мере применима характеристика «бесчерновиковости».
Ограниченность мира, в котором реально обитали все японцы и каждый из них в отдельности, привела к тому, что их достижения, признанные всем миром, связаны, прежде всего, с малыми формами (включая и продукты современного научно-технического прогресса), требующими точного глазомера, умения оперировать в малом пространстве, приводить его в высокоупорядоченное состояние. Легкость, с которой японцы овладели цивилизационными достижениями Запада, обусловлена, среди прочего, и тем, что процедура тотального измерения (с которой, начиная с Нового времени, тот связал свое экономическое и бытовое благополучие) была освоена японцами очень давно и прочно, что, в частности, находит свое выражение в крайне разработанной шкале измерений с удивительно малой для «донаучного общества» ценой деления. Известный всему миру перфекционизм японцев порождает, в частности, давнее и воплощенное в каждодневной деятельности стремление к точности измерения.
Высокая плотность населения, теснота проживания способствуют формированию специфического взгляда на мир, весьма отличного от того, которым обладают «равнинные» этносы, которым природные условия позволяют расселяться более вольготно. Общая тенденция к миниатюризации (которая прослеживается во всех областях жизнедеятельности — начиная от поэтических форм и кончая искусством выращивания карликовых растений — «бонсай») отмечается многими исследователями японской культуры. Современные технические и дизайнерские решения вряд ли нуждаются в дополнительном комментировании. Увлечение масштабным было свойственно японцам лишь на ранней стадии становления государственности (гигантские погребальные курганы, буддийский храм Тодайдзи в Нара — крупнейшее в мире деревянное сооружение с самой большой в мире бронзовой статуей и т. д.). Даже японский эпос, стадиально склонный, как известно нам из других традиций, к гипертрофированному изображению событий, не демонстрирует в Японии особой страсти к сильным преувеличениям.
Если характеризовать японскую культуру через зрительный код, то ее можно назвать «близорукой» (в отличие от «дальнозоркости» равнинных народов, в частности, русских): она лучше видит, а человек, ей принадлежащий, — лучше осваивает ближнее, околотелесное пространство. Одежда, дом, сад — вот что обустраивали японцы. Что же касается освоения пространства дальнего, то здесь эти культуры меняются местами. Японская культура как бы всегда смотрит «под ноги», и стратегическое мышление, мышление абстрактное, философское, взгляд на мир «сверху», освоение дальних пространств и просторов (как практическими, так и символическими методами) никогда не были сильными сторонами японцев. Японское культурное пространство — это, скорее, пространство «свертывающееся», нежели имеющее тенденцию к расширению. Поэтика первопроходцев, пионеров была в общем и целом японской культуре чужда.
Свое законченное и даже «экстремистское» выражение минималистские подходы находят выражение в «эстетике невидимого», согласно которой основные смыслы заключены не в явленном, а в сокрытом. Это касается и поэзии, где слова — лишь намек на общую картину, и прозы. Подобные построения, где «интервал» или же «белое пятно» является необходимым условием построения произведения, характерны для японской музыки («пауза важнее самого звука») и живописи (признаком «правильного» изображения объекта считается его частичная репрезентация). Такие произведения превращают зрителя в со-творца.
Может показаться, что такая «пустотность» или же «разреженность» текста является следствием буддийской концепции пустоты (шуньята), в которой, по определению, уже содержится все богатство феноменального мира. Но это не совсем так. Истоки такого подхода, видимо, имеет смысл искать в «иконографии» синто — там наиболее важные для поклонения объекты должны быть сокрыты от взоров и сглаза. Поражающая всех иностранцев разработанность японской «оберточной культуры» (тщательнейшее сокрытие подарка под многослойными покровами из бумаги и материи) произрастает из того же корня.
Далеко не случайно поэтому, что спорадические попытки японцев к пространственной экспансии всегда заканчивались неудачами. Крупнейший стратегический провал ждал Японию и при вступлении ее во вторую мировую войну, когда было принято фатальное решение о нападении на Перл-Харбор. И это в то время, когда японская армия прочно увязла в необъятном Китае! И дело здесь не в природной «глупости» руководства страны, а в его в буквальном смысле этого слова «недальновидности», то есть культурно обусловленной неспособности оперировать невиданными до сих пор геополитическими масштабами.
В японской культуре отсутствует тенденция, которая столь ярко проявлена в европейской культуре — тенденция к самообожествлению человека. Человек не считается ни венцом творения, ни мерой всех вещей. Подавляющее большинство школ японского буддизма разделяют убеждение, что природа Будды наличествует в каждом человеке, животном и даже растении. Только при таком подходе могли появиться предания о деревьях, которые достигли состояния Будды. Таким образом, граница между миром людей и остальным миром, между природным и человеческим, между одушевленным и неодушевленным не является столь непроницаемой, как на Западе. Здесь видно влияние не только буддизма, но и синто с его политеизмом. Камо Мабути, ведущий идеолог синто, писал в 1765 г.: «Другая дурная привычка китайцев заключается в том, что они отделяют человека от животных, превознося человека и презирая остальное… Разве не все существа, обитающие между Небом и Землею, не ничтожны? Почему только человек должен считаться сокровищем? Что в человеке особенного?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: