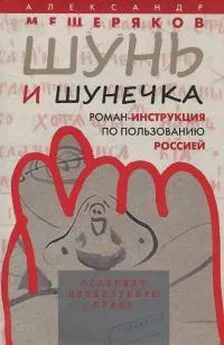Александр Мещеряков - Послевоенная Япония: этнологическое уничтожение истории
- Название:Послевоенная Япония: этнологическое уничтожение истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мещеряков - Послевоенная Япония: этнологическое уничтожение истории краткое содержание
Послевоенная Япония: этнологическое уничтожение истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отрицание исторических методов познания приводило к тому, что в оборот вводились такие понятия, которые, по мнению этнологов, имели надысторический характер. К их числу относятся прежде всего природные условия, которые якобы являются неизменными. Этнологам казалось, что именно природные условия являются ключевым моментом в формировании национального менталитета.
Термин «симагуни» — «островная страна» — был одним из наиболее частотных в их словаре. Он был в широком употреблении и у довоенных пропагандистов, которые, оправдывая свои экспансионистские планы, утверждали, что у островной Японии слишком мало места для ее возрастающего населения. Однако территориальные приобретения (в особенности на материке — Корея и Маньчжоу-го) привели к тому, что его отчасти сменили такие фразеологизмы, как «материковая Япония» ( тайрику нихон ) и «морская держава» ( кайкоку ). Военные победы лишали Японию ее «малости», о которой говорили те, кто обосновывал экспансию недостаточными размерами территории. И вот на страницах школьных учебников Япония на глазах превращалась в «морскую державу»: «Нынешняя Япония, как и говорит название “морская Япония”, во всех морях мира подняла свой “солнечный круг” (национальный флаг. — А. М. ), который испускает сияние страны… Пространство, на котором несет свою славу морская Япония, необъятно. Продвигаться по этим широким просторам с “солнечным кругом” — наше благородное предназначение» (Ириэ 2001: 45). В это время море стало рассматриваться как среда проницаемая, как субстанция, через которую Япония станет — уже становится — великой. Однако поражение в войне и потеря ею заморских территорий снова вернули Японию в ее исторические островные границы.
Принимая термин «островная страна», послевоенные этнологи делали совсем другие выводы. Хори Итиро писал: «Япония является островной страной, деревенское общество сформировалось в результате проявления принципиально “островной” феодальности, проявившей себя в интровертно-консервативной и столь замечательной сдержанности и приспособляемости, в развитой солидарности — в народе с выраженными национальными особенностями. Отсюда происходят и замечательные достижения в области бытовой культуры, религии, искусстве и литературе. С другой стороны, выпячивание собственного “я”, недопущение чужаков и островное сознание отрезали пути к исконной свободе. Окруженность общинного общества морем воспитала в японцах сильное чувство родины и мимикрию…» (Нихондзин 1976: 78). Таким образом, термин «симагуни» служил теперь доводом в пользу исключительности японцев — будь то характеристики положительные или отрицательные. Правила традиционного этикета требовали от человека скромности. Японец, взятый сам по себе, не должен был выпячивать свою уникальность. Однако правила поведения нации требовали совсем другого: отделения, противопоставления, «индивидуализации» коллективного сознания.
По мнению Янагида Кунио, «островная жизнь» предполагала существование маленьких общин. «Человеку попросту было некуда деться — кругом море. Поэтому точно так же, как в случае с птицами и рыбами, отделение от коллектива грозило многими опасностями. (И у японцев) выработался почти такой же инстинкт. На-хождение в коллективе сильно уменьшает опасности. Перелетные птицы держатся вместе — отбиться от стаи означает сделаться добычей врагов. Полагаю, что отсюда и происходит чувство привязанности к коллективу» (Нихондзин 1976: 273).
Твердя о том, что островная Япония окружена водной стихией, послевоенные этнологи воспринимали море как преграду, а не как возможность для общения. Синкретизм японской культуры (сочетание автохтонных и заимствованных элементов из Кореи, Китая и стран Запада) интересовал их намного меньше, чем поиски самобытности.
Этнологи искали и находили признаки «исключительности» японцев. Их работы, получавшие с течением времени все больший резонанс, были, как правило, лишены агрессивной и экспансионистской составляющей. Ученые говорили не только о «достоинствах» японцев, но и об их «недостатках». Но даже эти недостатки представлялись как исключительные. Признавая присущую японскому языку омонимию препятствием к свободному общению, Ото Токихико отмечал, что другого такого языка не существует (Там же: 163). Иными словами, этнологи, а вслед за ними и мыслители, журналисты и шарлатаны искали не общие для всего мира ментальные, поведенческие и бытовые структуры, а выделявшие из общего ряда «национальные» особенности. При таком подходе кросс-культурный анализ в значительной степени оказывался фикцией. Как правило, мыслители говорили о мире «в целом», о мире, не расчлененном на отдельные страны и традиции. Оборот «по сравнению с другими народами, японцы…» сделался общим местом. Этнологи утверждали, что по сравнению с другими народами в японской культуре четче выражено разделение священного и профанного, «своего» и «чужого», они более остро чувствуют смену времен года, у них более развито и чувство коллективной солидарности, японцы исключительно любопытны, они не боятся смерти. Главный носитель культурных смыслов, японский язык характеризуется невероятным богатством, ассоциативностью. Японский способ речевого общения отличается этикетностью, недосказанностью, расплывчатостью, поэтичностью. Официальная идеология военного времени тоже делала упор на особости японцев, но это была особость другого рода. В томе, посвященном 2600-летию японской империи, которое широко праздновалось в 1940 г., говорилось: «То сердечное благоговение, которое испытываем мы, японоподданные, по случаю 2600-летия страны, трудно уяснить до конца людям из других стран; понять глубины нашего сердца очень тяжело» (Тэнгё хосе, c. 3).
Общеяпонский политический климат, скептицизм по отношению к недавней истории, усилия этнологов по отрицанию исторической науки принесли решительные изменения в среду профессиональных историков. В послевоенный период в течение двух с лишним десятилетий историки-марксисты играли ведущую роль. Эти японские историки оказались «больны» тем же самым набором болезней, который характерен для этого направления исторической науки. К этим «болезням» следует отнести прежде всего примат теории над фактом, представление об истории как продукте исключительно классовой борьбы, игнорирование роли личности, психологической составляющей истории, локальной специфики исторического процесса. В результате в изображении этих ученых японская история — за исключением имен и дат — стала выглядеть как история любого другого государства. Таким образом, японская историческая наука первых послевоенных десятилетий по своим методологическим установкам («все факты должны соответствовать теории») отличалась от довоенной историографии немногим.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: