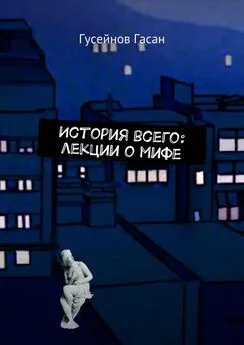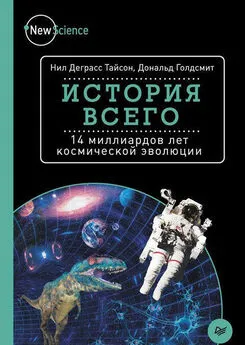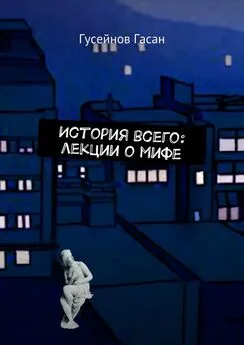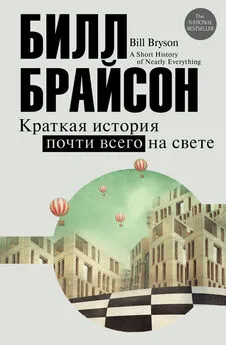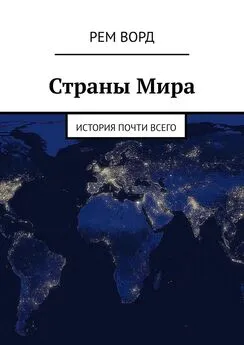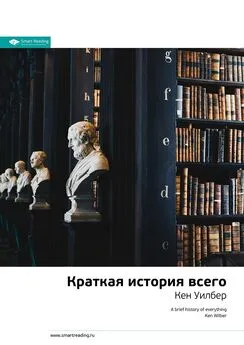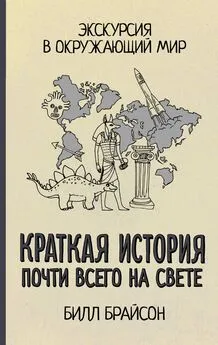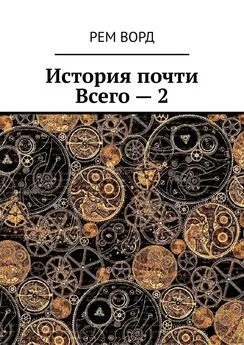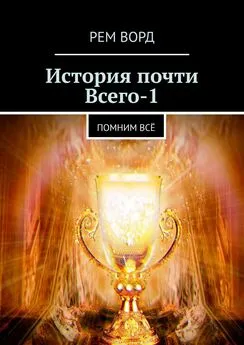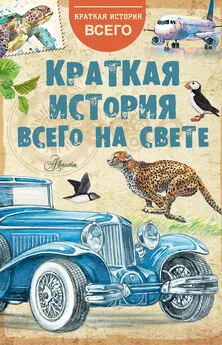Гасан Гусейнов - История всего: лекции о мифе
- Название:История всего: лекции о мифе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- ISBN:978-5-4483-4105-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гасан Гусейнов - История всего: лекции о мифе краткое содержание
История всего: лекции о мифе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В центре эпического повествования — события, имевшие место в Восточном Средиземноморье за 400 лет до самих повествователей. Аэды, услаждавшие слух воинов, рассказывали тем о битвах давно минувшего прошлого, которого не знали и сами, но искусно вплетали в свои сочинения фрагменты новой картины мира. От старинной импровизации на темы греческой мифологии в поэмах Гомера осталось множество следов. Прежде всего — это тот стихотворный размер, которым они написаны.
Первый видимый элемент импровизации — устойчивые клише, или формульные стихи («Встала из мрака младая, с перстами пурпурными Эос» 19 19 Гомер; пер. Жуковского А. Н. Одиссея. — М.: Правда, 1984.
, «И Гефесту Фетида, залившись слезами, вещала…») 20 20 Гомер. Илиада. / Пер. Н. И. Гнедича. Л.: Наука, 1990
. Это и набор эпитетов, прилагавшийся к именам богов и героев: «С вестью Ирида явилась к Елене лилейнораменной»; «Аполлон Дальновержец»; «Теламонид могучий», «шлемоблещущий Гектор». Это приспособленные под размер поэмы другие простейшие нарративные операторы: «Так он сказал…», «Так говорила. Приам же…», «Так говорила, и старцы…». Итак, не забудем об изустной природе поэм, которые под именем великого слепца были записаны только в VI веке. А потом, как, впрочем, и все прочие дошедшие до нас тексты античных авторов, переписывались от руки еще две тысячи лет. Античность — вся, и греческая, и римская, — знает только рукописную, штучную книгу.
Гомер и риторика
Суггестивная природа гомеровского эпоса. — Приемы создания образа. Ораторское искусство в «Илиаде». — Исток риторической традиции. — Правдоподобие в эпосе.
Риторика как наука возникнет лишь несколькими столетиями позже появления самого значительного произведения риторического искусства — эпических поэм. Поэмы, в которых реальные исторические события переплетены с самым беспардонным вымыслом, но которые оказались убедительнее любого научного трактата, любых подтвержденных неумолимыми физическими данными доказательств. Сила этого вымысла столь велика, что он готов справиться с любыми поправками и уточнениями, которые — начиная с самой античности! — предлагали ученые археологи, историки и философы. В чем же эта сила? Во-первых, она в необыкновенной суггестии, иначе говоря, в совпадении предельной сжатости и предельной повествовательной щедрости певца.
Вот Аполлон, исполняя приказ Зевса, предложил троянцам свою помощь и подвигнул их на вылазку. Вот как описывает Гомер попытку Гектора переломить ход войны. Итак, Аполлон:
Рек, и ужасную силу вдохнул предводителю воинств:
Словно конь застоялый, ячмéнем раскормленный в яслях,
Привязь расторгнув, летит и копытами поле копает;
Пламенный, плавать обыклый в реке быстрольющейся, пышет,
Голову, гордый, высоко несет; вкруг рамéн его мощных
Грива играет; гордится он сам красотой благородной;
Быстро стопы его мчат к кобылицам и паствам знакомым, —
Гектор таков, с быстротою такой оборачивал ноги,
Бога услышавши глас; возбуждал он на бой конеборцев.
Словно рогатую лань или дикую козу поднявши,
Гонят упорно горячие псы и ловцы поселяне;
Но высокий утес и густая тенистая роща
Зверя спасают; его изловить им не сужено роком;
Криком меж тем пробужденный, является лев густобрадый
Им на пути и толпу, распыхавшуюсь, в бег обращает, —
Так аргивяне дотоле толпой неотступные гнали
Трои сынов, и мечами и копьями в тыл поражая;
Но лишь увидели Гектора, быстро идущего к рати,
Дрогнули все, и у каждого в ноги отважность упала.
(XV, 261—279). 21 21 Гомер. Илиада. / Пер. Н. И. Гнедича. Л.: Наука, 1990
Поразительная, хотя на первый взгляд избыточная в плане ее образности, перспектива возникает в месте встречи обоих сравнений. Сцена выхода Гектора на поле битвы предстает в двух конкурирующих сравнениях. Каждое является самостоятельной картиной. Оптику первой картины я бы назвал гиппоэротической. Как застоявшийся в конюшне жеребец рвет путы и несется к своим кобылицам, так и Гектор, подстегиваемый Аполлоном, вылетает за стены Трои, туда, где у своих кораблей хотят найти убежище греки. Мирно-эротический характер этого сравнения заставляет предположить, что тут Гомер показывает своего героя из троянской перспективы. Глядя из-за городских укреплений, в самом деле, можно мечтать о вырвавшемся на свободу изголодавшемся по кобылицам жеребце.
Совсем другое дело — сравнение Гектора с «густобрадым львом», наводящим ужас на города и веси. Этот Гектор-кровожадный-лев увиден уже не глазами троянцев, но глазами греков. В чем особенность такой внутритекстовой перспективы? Конечно, она довольно проста. Можно говорить здесь о риторической фигуре хиазма, в центре которой, в перекрестье «Х», ратная сцена, а в начале и в конце периода два разнозаряженных фаунистических сравнения.
Словесным источником гомеровских поэм были отдельные песни, представлявшие собой повествовательный клубок. Он разматывался вокруг хорошо запоминавшихся картин, изобразительных и предметных комплексов. Множественные переклички, которые возникают между гомеровскими поэмами и изображениями на камне, керамике или в металле, дают представление об этих «вещах Мнемозины». Конечно, сегодня наш с вами «текст» сплетен из закрепленного в письменном виде словесного материала, но его «подбой» — это и память о сложных изобразительных комплексах, воображаемых или реальных. Слово одушевляет эти вещи, оно заставляет слушателя поэмы сначала представить себе некое волшебное по красоте виртуальное изделие. Потом, увлекшись его разглядыванием внутренним оком, словно разбуженным потоком речи певца, слушатель забывает обо всем и заботится уже только о том, как бы не пропустить момента таинственного превращения Гектора из откормленного и порвавшего путы жеребца в разбуженного льва. Детям века цифровых технологий легко представить себе подобное превращение простым анимационным трюком.
Итак, первым заметным признаком гомеровского стиля, восходящим к устной природе эпоса, мы назвали суггестию, или внушение восприемнику произведения способности видеть за малым большое, за движением человека — природный катаклизм, за явлением природы волю божества, за поступками богов их неожиданную ревность к людям. За счет чего достигается эта суггестия? За счет повествовательной щедрости, необыкновенного богатства словесных средств и свободы владения ими. Сила и богатство эти таковы, что греки очень рано сочли слово божественной субстанцией. Эту удивительную, кажущуюся волшебной, способность построить повествование, в котором читателю одновременно предлагается наблюдать несколько планов бытия, вам предстоит схватить и понять.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: