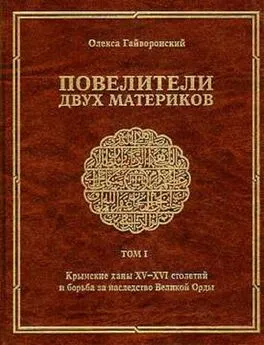Олекса Гайворонский - Повелители двух материков. Том. 2: Крымские ханы первой половины XVII столетия и борьба за самостоятельность и единовластие
- Название:Повелители двух материков. Том. 2: Крымские ханы первой половины XVII столетия и борьба за самостоятельность и единовластие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Оранта, Майстэрня кныгы
- Год:2009
- Город:Киев, Бахчисарай
- ISBN:978-966-2260-03-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олекса Гайворонский - Повелители двух материков. Том. 2: Крымские ханы первой половины XVII столетия и борьба за самостоятельность и единовластие краткое содержание
Повелители двух материков. Том. 2: Крымские ханы первой половины XVII столетия и борьба за самостоятельность и единовластие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Приведенная последовательность наглядно иллюстрирует, что практически все крымские ханы стремились закрепить престол за своими старшими сыновьями, и если этот порядок нарушался, то лишь в результате прямого внешнего вмешательства. В осуществлении этой реформы ханам неизменно противостояли две силы: предводители крымской аристократии и османские султаны. Первые упорно защищали архаичные староордынские обычаи, на которых основывались их собственные наследственные привилегии. Беи с основанием опасались, что установление полного ханского единовластия лишит их исконных прав и огромного влияния в государственной жизни, как это случилось прежде с турецкой родовой знатью (по сути, уничтоженной как класс и низведенной до статуса всех прочих подданных падишаха).
Что касается османских султанов, то сохранение в Крыму «ордынского» порядка престолонаследия предоставляло им гораздо больше возможностей манипулировать кандидатами в ханы, нежели строгая прямая преемственность от отца к сыну. Поначалу, вмешиваясь в вопросы наследования крымского трона, султаны выступали в обличье ревнителей чингизидского обычая, что стало формальным основанием к назначениям Саадета I Герая, Исляма II Герая, Селямета I Герая. По мере роста османского влияния в Крыму во внимание стала приниматься уже не столько традиция, сколько личная воля султана, и первым примером этого стало, как уже упоминалось, назначение Гази II Герая. Причем, если его утверждение на престоле еще могло иметь некое обоснование в статусе Гази II Герая как одного из братьев прежнего хана (пусть и не первого по старшинству среди них), то назначение Джанибека Герая, не приходившегося ни родным сыном, ни братом кому-либо из прежних ханов, стало примером чистого «волюнтаризма» султана с точки зрения обеих вышеописанных традиций престолонаследия.
Принимая это во внимание, претензии Мехмеда III Герая на власть (равно как и мятеж в 1601 г. его старшего брата Девлета) получают полное обоснование, ведь и тот и другой являлись прямыми и единственными наследниками трона согласно «османскому порядку»: ибо они, как и их отец, как и их дед, являлись старшими сыновьями своих царствовавших отцов.
Об особенностях употребления в Крыму титула «султан» см. Том I, с. 148, прим. 18. Напомню, что «султанами» в Крымском ханстве называли не верховных правителей, как в Турции, а напротив, лишь тех членов правящей династии, которые никогда не занимали трона.
32
Независимо от того, насколько обоснованными были обвинения Насух-паши в планах возведения крымского принца на османский трон, они подтверждают малоизвестный, но примечательный факт: в Стамбуле первой половины XVII в. не раз звучали опасения, что Герай могут заявить претензии на престол Османской империи. Это станет заметным фактором неформальных отношений крымского и османского двора в описываемую эпоху и потому представляет немалый интерес. В первом томе уже говорилось (Том I , с. 358–359, прим. 102) о бытовавшем в Крыму и в Турции представлении, согласно которому турецкий престол должен будет перейти к роду Гераев в том случае, если род Османов по каким-то причинам прервется; причем в первой половине XVII столетия эта договоренность уже считалась «давним правом» (Wyjаtki z negocyacyi kawalera Sir Thomas Roe w czasie poselstwa jego do Party Ottomanskiej odr. 1621 do r. 1628 inclusive, w: Zbior pamietnikow historycznych o dawniej Polszcze, wyd. J.U. Niemcewicz, t. V, Lipsk 1840, s. 322). Источники подтверждают, что такое опасение время от времени действительно возникало в Стамбуле. Так, например, в прежние десятилетия в намерении овладеть османским троном подозревали Гази II Герая (C.M. Kortepeter, Ottoman Imperialism During the Reformation: Europe and The Caucasus, New York 1972, p. 180). В 1622 году подобных же претензий ожидали и от Джанибека Герая (см. ниже). Подозрения и беспокойство по тому же самому поводу еще не раз возникнут в Стамбуле: в 1623, 1637 и 1640 гг., о чем будет упоминаться в последующих главах.
33
В. Д. Смирнов, Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты, с. 352, прим. 4; J. von Hammer-Purgstall, Geschichte der Chane der Krim unter Osmanischer Herrschaft, Wien 1856, s. 97.
В некоторых источниках говорится не о косуле, а о ловчем соколе Мехмеда Герая, перехватившем добычу у соколов султана, однако финал описывается тот же: гнев султана и арест Мехмеда Герая. Следует также заметить, что историческое сочинение «Теварих-и Дэшт-и Кыпчак (История Кыпчакской степи)», написанное Абдуллахом, сыном Ризван-паши (уникальное в своем роде, поскольку описывает ряд событий 1608–1611 гг., не отраженных ни в одном другом источнике), излагает обстоятельства пребывания Мехмеда Герая в Стамбуле совершенно иначе: Мехмед сам явился в Эдирне к Насух-паше, покаялся в мятеже, был прощен, и султан относился к нему с такой благосклонностью, что это вызвало ревность и опасения Джанибека Герая. Но впоследствии султану пришлось за какие-то проступки заключить Мехмеда Герая в Еди-Куле, где впрочем, с ним продолжали обращаться очень обходительно (A. Zajаczkowski, La chronlque des steppes kiptchak (Tevarih-i Dest-i Qipcaq) du XVlle siecle. Edition critique, Warszawa 1966, p. 92).
34
Как писал французский посланник Клод Шарль де Пейссонель, посетивший Крым в XVIII веке, «первое чувство, которое с детства стараются привить этим султанам [т. е. ханским сыновьям — О. Г.], — это щедрость, как первый и истинный признак величия» (C. Ch. de Peyssonel, Traite sur le commerce de la mer Noire, t. II, Paris 1787, p. 247–248).
35
Халим Гирай султан, Розовый куст ханов или История Крыма, Симферополь 2004, с. 53.
По поводу щедрости Джанибека Герая современниками высказывалось и противоположное мнение. См. с. 87 в этом томе.
36
См. подробный список военных акций украинских казаков в Западном Причерноморье (крепости Джан-Керман на Днепре, Ак-Керман и Бендер на Днестре, османские владения в Молдове, на побережьях Болгарии и т. д.) за 1600–1614 гг. в: М. Грушевський, Історія України-Руси, т. VII, Київ — Львів 1909, с. 325–327, 344–348; M. Berindei, La Porte ottomaneface aux cosaques zaporogues, 1600–1637, «Harvard Ukrainian Studies», vol. I, nr. 3, 1977, p. 275–278.
37
Кан-Темир появляется в источниках как предводитель набегов на польскую Украину еще в 1606 году. См. перечень буджакских и крымских нападений в 1606–1620 гг. на пограничья Польши в: M. Horn, Chronologia i zasiеg najazdow tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1600–1647, w: Studia i materialy do historii wojskowosci, t. VIII, cz. 1, Warszawa 1962, s. 8-32, tab. 1. О некоторых из этих акций указано, что они проводились без повеления хана.
38
В. Д. Смирнов, Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты, с. 351.
39
А.А. Новосельский, Борьба Московского государства с татарами в первой половине ХVII в., Москва-Ленинград 1948, с. 183–184.
Недовольство подданных, выраженное в этой фразе, определялось, скорее всего, не столько моральным обликом хана, сколько его предосудительной зависимостью от т. н. служилой знати, к которой принадлежал Бек-ага. Первостепенное значение в государственной жизни Крыма традиционно принадлежало родовой знати — главам крупных аристократических родов. Стремясь снизить чрезмерное влияние клановой аристократии в государственной жизни страны, крымские ханы (начиная с Газы II Герая) ввели при дворе аналог османского поста везиря — пост хан-агасы, который у Джанибека Герая и занимал Бек-ага. На эту первостепенную должность мог быть назначен по личному выбору хана любой кандидат, независимо от знатности происхождения. Благодаря этому сильно возрастало значение всей придворной прослойки служилых чинов (командиров ханской личной гвардии, служащих ханской канцелярии и т. д.), что, в свою очередь, ограничивало исконное влияние родовой знати и, естественно, вызывало ее неудовольствие. Хан, слишком симпатизирующий служилой знати в противовес родовой, рисковал настроить против себя знатных беев и мирз — что, как видим, и произошло с Джанибеком Гераем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: