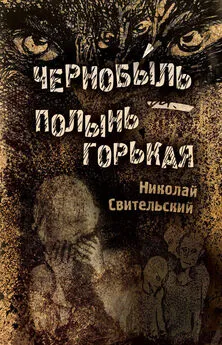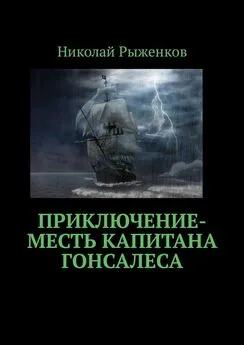Николай Карпан - Чернобыль. Месть мирного атома
- Название:Чернобыль. Месть мирного атома
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2006
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Карпан - Чернобыль. Месть мирного атома краткое содержание
Чернобыль. Месть мирного атома - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дальнейшие решения Правительства, пытавшегося «сохранить лицо» перед замазанным радиацией мировым сообществом, не выбивались из этого логического ряда - руководство станции осудили, а персонал навечно заклеймили. Несогласных с таким подходом уволили, а погибших - великодушно простили.
Хамьянов Л.П., из книги «Москва - Чернобылю»,
М., Воениздат, 1998 г.
Хамьянов Леонид Павлович, начальник отделения радиационной безопасности и химико-технологических процессов на АЭС. Инженер-физик, кандидат физико-математических наук, с 1954 г. по 1976 г. работал в Физико-энергетическом Институте в г. Обнинске Калужской области, ас 1976 г. по настоящее время во ВНИИАЭС. Участник ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986 г.
26 апреля 1986 г. рано утром на моей квартире зазвонил телефон и главный инженер «Союзатомэнерго» Прушинский Борис Яковлевич сообщил, что на Чернобыльской АЭС крупная авария. Как член Межведомственной группы оказания помощи АЭС в случае аварии (группа ОПАС) я должен был прибыть в Союзатомэнерго для участия в оценке ситуации и разработке первоочередных мер...
После нескольких часов сборов группа ОПАС и несколько человек из других ведомств на военном самолете летит в Киев. В аэропорту Жуляны нас встретили и на автомобилях, в сопровождении милиции, быстро поехали в г. Припять. По «домашним заготовкам» мощность дозы внешнего облучения при максимально возможной аварии могла составить на расстоянии 3 км (г. Припять) около 2 рентген в час. В действительности в ночь с 26 на 27 апреля 1986 г., она достигла 1,2 рентген в час.
Уместно напомнить, что допустимая доза облучения персонала за год составляет 5 бэр/год, принятая через некоторое время НКРЗ (Национальная комиссия по радиационной защите) Минздрава СССР допустимая доза облучения за всю жизнь составляет 35 бэр. В условиях Чернобыльской аварии и то и другое можно было получить в эти первые дни за несколько часов. Отличительной особенностью 26 апреля 1986 г. по погодным условиям был ясный, солнечный день и полный штиль. В результате этого радиоактивные вещества из разрушенного реактора горячим потоком воздуха поднимались вверх, а затем медленно, путем диффузионных процессов распространялись во все стороны. В момент прибытия группы ОПАС в г. Припять (около 14 часов 26 апреля)
мощность дозы в городе составляла около 40 мкр/сек (140 мр/час), а рано утром (когда Прушинский говорил по телефону с Брюхановым) было около 4 мкр/сек (14 мр/час). Искажение при передаче информации утром произошло из-за того, что приборы на ЧАЭС имели шкалу в мкр/сек, тогда как обычно мощность дозы сообщают в единицах мкр/час. Таким образом, уже утром мощность дозы в городе Припять приблизительно в 1000 раз превышала естественный фон...
По прибытии в г. Припять в здании горкома КПСС состоялась встреча с директором и главным инженером станции.
Вопросы касались прежде всего состояния аварийного реактора и возможности повторного неконтролируемого «разгона» реактора 4-го блока. Со слов физиков ЧАЭС реактор может выйти из состояния «отравления» где-то около 21 часа вечера 26 апреля...
Когда мы въехали на территорию станции и проезжали мимо 4-го блока, сидевший за мной в машине Конвиз A.C. из Гидропроекта предложил остановиться и посмотреть развал стены блока. Мы остановились и даже вышли из машины. Секунд через 30 чувство дозиметриста подсказало мне, что без знания радиационной обстановки и приборов нельзя находиться в зоне аварии, о чем я и сказал коллегам и предложил ехать в штаб на 1-й блок. Как вскоре выяснилось, я был прав, так как радиационная обстановка вблизи развалов была очень тяжелой, даже опасной. В штабе (в подвале 1-го блока) каждый занялся своим делом. Я встретился прежде всего с начальником штаба ГО Воробьевым С.С., который рассказал о радиационной обстановке на промплощадке, которую он контролировал инструментально с начала аварии. Обстановка была очень тяжелой. Для оценки ситуации нужны были хотя бы какие-то представления о выбросе радиоактивности из 4-го реактора. Я встретился с начальником лаборатории внешней дозиметрии Коробейниковым Владимиром Лаврентьевичем, который показал мне первую справку о выбросе радионуклидов, которую они подписали с директором Брюхановым В.П. В этой справке утверждалось, что радиационная обстановка в г. Припяти обусловлена инертными радиоактивными газами (криптоном и ксеноном).
Я спросил Коробейникова В.Л. о радиоактивном йоде, который очень опасен в таких ситуациях, так как при вдыхании вместе с воздухом он проникает в легкие, а потом концентрируется в щитовидной железе, где создает большую локальную дозу облучения. Коробейников уверял, что йода они не видели. Я предложил поехать в город в лабораторию и посмотреть ещё раз на германий-литиевом спектрометре, который у них имелся.
Когда, приехав в лабораторию, мы включили спектрометр, то на экране монитора прибора были отчётливо видны пики у линий изотопов радиоактивного йода, который находился в воздухе рабочих помещений лаборатории и, соответственно, в атмосфере города. Это лишний раз убедило меня, что мы имеем дело с разрушенной активной зоной реактора, из которой выносятся летучие продукты деления и распространяются в окружающей АЭС среде. Коробейников В.Л. сказал также мне, что он проследил путь движения радиоактивного облака после взрыва на 4-ом блоке. По следу на земле было ясно, что облако ушло на запад, причём Коробейников В.Л. установил, что его «приземление», т.е. касание земли при постепенном расширении, произошло в 22 км от г. Припяти в районе Толстого леса. В дальнейшем я ездил туда и данные Коробейникова В.Л. подтвердились. Картина обстановки постепенно прояснялась. Погодные условия оставались штилевыми, реактор постоянно выбрасывал радионуклиды, в г. Припять радиационная обстановка постепенно ухудшалась...Бросалось в глаза, что жители г. Припять, хотя и знали об аварии, но отнеслись к этому спокойно и даже не проявляли интерес к людям, производившим измерения на улицах.
А на станции, в тяжелейших условиях по радиационной обстановке персонал продолжал обслуживать три блока станции, фактически оставшись без индивидуального дозиметрического контроля.
Об этой проблеме хочется рассказать подробнее. Штатным средством индивидуального дозиметрического контроля долгое время оставались рентгеновские пленки (ИФКУ). Вскоре после начала бурного развития атомной энергетики выявились недостатки этой системы. Контроль большой массы людей пленками ИФКУ оказался очень трудоемким, что неизбежно приводило к неточностям. Очень низок был и предел возможного измерения дозы, равный 2-м бэрам, что исключило их применение в аварийных условиях. ВНИИАЭС за несколько лет до Чернобыльской аварии взял на себя внедрение на АЭС новых термолюминисцентных дозиметров для индивидуальной дозиметрии. Измерительный прибор для этой системы был разработан в приборостроительном Институте (СНИИП) в Москве Соколовым А.Д., но хорошего детектора для регистрации излучения не было. На Западе имелись разработки таких детекторов на основе У Р. но все попытки в СССР (в том числе и в СНИИПе) не давали результатов. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда в городе Ставрополе на химическом комбинате «Люминофор» нашелся энтузиаст Гаркуша В.А., который взялся получить поликристаллы из 1лР для целей дозиметрии. Мы немедленно связались с ним, заключили договор о сотрудничестве и взяли на себя работу по определению требований к детекторам, оценке качества, аттестации в службе метрологии и внедрению на АЭС с разработкой методик, инструкций и обучением персонала. Ставрополь наладил выпуск больших партий детекторов и внедрение началось. Новая система была уже современной. Детектор был многоразового пользования, нижний порог измерения дозы удалось опустить до 10 мбэр (у ИФКУ-50 мбэр), а верхний порог поднялся до 1000 бэр, т.е. такие дозиметры автоматически стали и аварийными. На ЧАЭС внедрение новой системы дозиметрии было намечено на 3 квартал 1986 г., станция закупила измерительные приборы на заводе в г. Желтые Воды, а детекторы должен был поставить Ставрополь. Авария на 4-ом блоке случилась раньше и нам пришлось срочно создавать систему дозконтроля персонала, так как в течение 12-ти часовой смены люди получали на станции до 10 - 12 бэр, т.е. две годовые дозы при обычных условиях. Возвращаясь к рассказу о первом дне, хочу отметить, что вечером 26 апреля начали изменяться погодные условия. Вместо штиля в течение всего дня к вечеру появился ветер в направлении на север (на Белоруссию), который стал сносить облако радиоактивности в этом направлении, задевая своим краем и г. Припять. С тревогой ждали вечером 21-22 часов, когда по оценке физиков произойдет разотравление активной зоны реактора. В это время A.A. Абагян вместе с дозиметристом ЧАЭС Красноженом и пожарником поехали на площадку АЭС посмотреть удобное место для взятия воды из водных каналов станции (графит еще продолжал гореть). Во время осмотра в реакторе 4-го блока прогремели три взрыва, и из него полетели раскаленные до свечения куски, и группе Абагяна пришлось прятаться под железный мост над каналом. Я наблюдал эту картину с 3-го этажа здания горкома партии. Зрелище было впечатляющим. Было ли это результатом разотравления реактора или просто в это время в горящий графит попала вода и произошел паровой взрыв, сказать трудно, так как прямых доказательств, по-моему, нет...После взрывов я спустился на площадь перед Горкомом партии и включил дозиметр. Через некоторое время стрелка на шкале прибора стала показывать увеличение мощности дозы излучения, причем рост происходил прямо на глазах. Спустя приблизительно 1 час мощность дозы на площади составляла (320-330 мкр/сек.), т.е. около 1,2 р/час.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
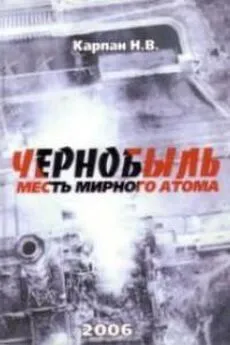
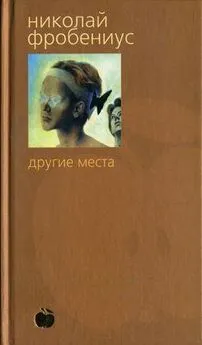

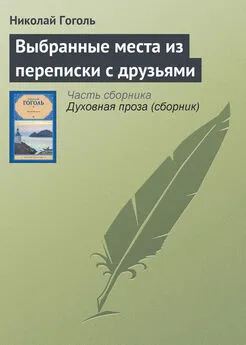
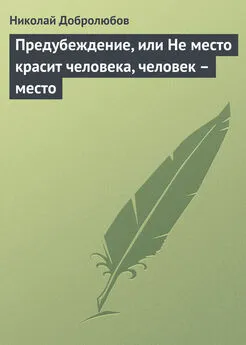
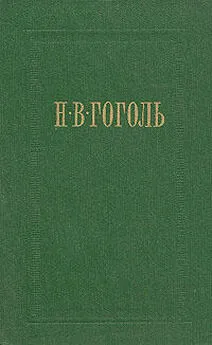
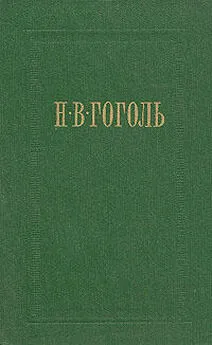
![Николай Гоголь - Страшная месть [Совр. орф.]](/books/1069225/nikolaj-gogol-strashnaya-mest-sovr-orf.webp)