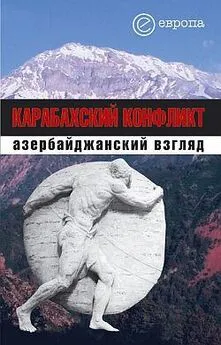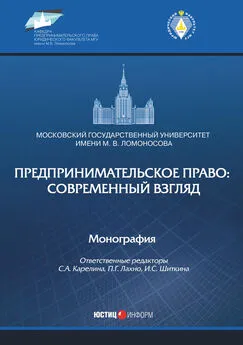Коллектив авторов - Вторая мировая: иной взгляд. Историческая публицистика журнала «Посев»
- Название:Вторая мировая: иной взгляд. Историческая публицистика журнала «Посев»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Посев
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-85824-180-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Вторая мировая: иной взгляд. Историческая публицистика журнала «Посев» краткое содержание
Вторая мировая: иной взгляд. Историческая публицистика журнала «Посев» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нет никакой загадки ни в поразительной бесчеловечности лондонских политиков, сознательно отправлявших русских заключённых на верную гибель, ни в расточительной щедрости политиков вашингтонских, всю войну закрывавших глаза на истинное предназначение требуемых Сталиным поставок (например, в разгар немецкого наступления 1941 года руководство Амторга вдруг запросило у американцев свыше четырёх тысяч километров колючей проволоки, не встретив ни единого вопроса о том, кого и где именно при отсутствии затяжной позиционной войны собирается ограждать «русский вождь» на таком немыслимом пространстве).
В своё время Александр Исаевич Солженицын исчерпывающе определил сущность подобного поведения термином «целесообразность».
До тех пор пока Красная Армия продолжала исправно отвлекать на себя основные силы Вермахта, и Рузвельту, и Черчиллю было ровным счётом всё равно, сколько русских будет отправлено в лагеря на ленд-лизовских автомашинах и сколько русских погибнет на фронте из-за отсутствия там этих автомашин. Стопроцентную безнравственность такой позиции ничуть не извиняют ссылки на первоочередную заботу западных политиков о жизни собственных граждан – ни христианские заповеди, ни принципы демократии не признают никакой разницы между хладнокровным убийством англичан и хладнокровным убийством русских.
Вряд ли были состоятельны и взволнованные предсказания неминуемого краха антигитлеровского альянса в случае ссоры со Сталиным из-за требований чёткого контроля за судьбой поставляемых в СССР грузов. Наиболее последовательным сторонником такого контроля был уже упомянутый посол США в Москве, адмирал Стэндли. Этот честный и проницательный человек, с искренним уважением относившийся к нашему народу, несомненно, заслуживает благодарной памяти потомков за свою бескомпромиссную верность принципам справедливости, свободы, противостояния наглой лжи. К паническому ужасу «опекавших» его Молотова и Вышинского, Стэндли никогда не боялся делать то, чего в тогдашней Москве никому даже присниться не могло – повышать голос на Самого, а то и в гневе стукнуть по столу кулаком, как это случилось, например, когда Сталин попробовал беззастенчиво врать послу о мнимом бегстве в Манчжурию польских офицеров, которые на деле были давно расстреляны чекистами в Катыни. Столь же упорно Стендли добивался истины в вопросах расширения американских поставок. При обмиравшем от страха Вышинском адмирал настойчиво требовал от Сталина объяснений, зачем Соединённым Штатам присылать новые грузы, если прежние, по собранным посольством данным, зачем-то удерживаются на промежуточных станциях, образуя под снегом целые контейнерные города.
Возмущённый систематическим замалчиванием советскими газетами не только объёмов, но и самого факта союзной помощи, Стендли, не колеблясь, созвал в посольстве пресс-конференцию, где открыто высказал всё, что думал о такого рода двойной игре. Теперь уже в холодный пот бросило не только московскую, но и вашингтонскую бюрократию, засыпавшую Рузвельта апокалиптическими прогнозами поведения Сталина, разгневанного «этим солдафоном». Самым поразительным, однако, было то, что из всего дипломатического корпуса наиболее дружественные отношения у Сталина сложились как раз с «этим солдафоном», который запросто угощал вождя привезённым виргинским табаком, беседовал с ним на темы, от которых прочие сталинские собеседники пугливо уклонялись, а также занимал с интересом слушавшего хозяина Кремля колоритными рассказами о своём детстве на просторах знаменитой «русской Америки» и о впечатлениях от коронации Николая II, на которую он ещё совсем молодым мичманом был приглашён из Владивостока вместе с офицерами гостившего там крейсера «Олимпия». Взаимное уважение посла к советскому руководителю отразилось в его посланиях к президенту, где он настаивал: «Шеф, отнеситесь, наконец, к Сталину, как к взрослому человеку, а не как к капризному ребёнку, которого надо непрерывно осыпать рождественскими подарками – перестаньте разыгрывать доброго Санта-Клауса!»
Но в госдепартаменте царили совсем иные настроения, и тамошние советы президенту имели прямо противоположную тональность: любые возражения Сталину способны подтолкнуть его к заключению сепаратного мира с немцами. К 1943 году, когда Рузвельт, избавившись от несговорчивого адмирала Стэндли, окончательно перешёл к политике «доброго Санта-Клауса», для неё уже не было никаких военно-экономических обоснований: потери нацистов на восточном фронте в сочетании с колоссальным потенциалом американской промышленности не оставляли Гитлеру ни малейших шансов на победу. Сталин, соответственно, о сепаратном мире с Германией более не помышлял и не вышел бы из войны даже при полном разрыве отношений с западными союзниками.
В этом случае советские армии, оставшиеся без западных поставок фронту и тылу, скорее всего, отпраздновали бы победу не в Берлине, Белграде и Вене, а на собственной довоенной границе – но не думаю, чтобы это обстоятельство стало ударом по делу торжества демократии. Скорее, наоборот. А что чекисты не получили бы миллионы строителей своих «мёртвых дорог» и гигантского автопарка для их доставки – так оно бы, может, и к лучшему?
Но к лучшему мир способен меняться только при наличии достаточно дальновидных политиков, умеющих строить международные отношения не на зыбкой сиюминутной основе «доверительных бесед с моим великим другом», а на беспристрастном анализе развития реальной ситуации, на ответственности перед информированным гражданским обществом, на принципах соблюдения демократических традиций – в том числе и традиции недопустимости любых стратегических решений, принимаемых в глубокой тайне от народа.
Таких политиков на Западе в годы II мировой войны, к сожалению, не нашлось. Поэтому мюнхенский позор предательства миллионов чехов и словаков логически завершился ялтинским позором предательства десятков миллионов русских, поляков и других европейцев. Демократии не выиграли от ялтинского сговора со Сталиным ничего. Проигрыш же оказался настолько чудовищным, что и Рузвельт, и Черчилль имеют несомненное право претендовать на лавры главных архитекторов послевоенной «империи зла».
Их близорукая верность единожды выбранному курсу на безоговорочное сотрудничество со Сталиным в значительной степени подпитывалась наличием в странах Запада чрезвычайно активной и влиятельной пятой колонны большевизма – всех этих Бургессов и Маклинов, Филби и Паркеров, Смолок и Генри, Стрэйчи и Хиссов, из кожи вылезавших ради «торжества прогресса» и создания кремлёвскому выродку ореола величайшего поборника свободы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: