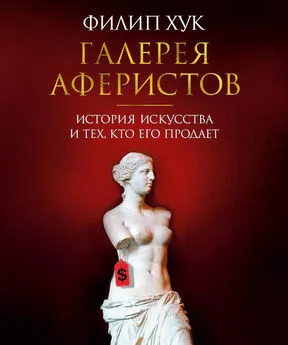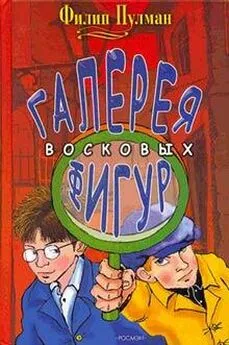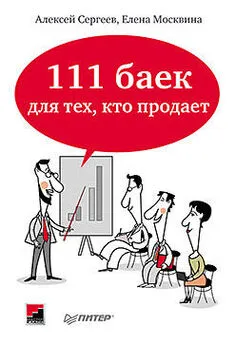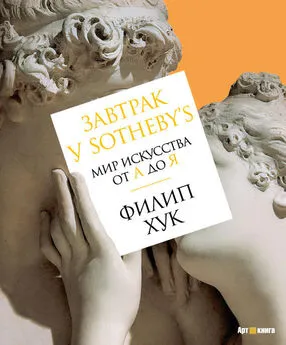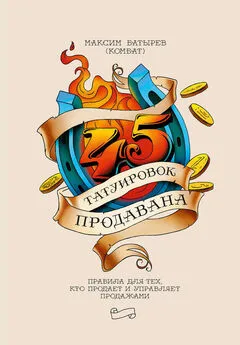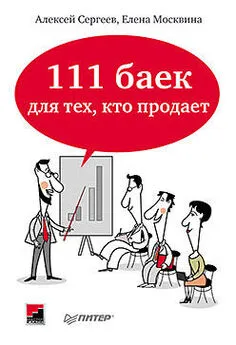Филип Хук - Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает
- Название:Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Азбука, Азбука-Аттикус
- Год:2018
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-389-14488-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филип Хук - Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает краткое содержание
История искусства от Филипа Хука — британского искусствоведа, автора знаменитого на весь мир «Завтрака у Sotheby’s» и многолетнего эксперта лондонского филиала этого аукционного дома — это история блестящей изобретательности и безумной одержимости, неутолимых амбиций, изощренной хитрости и вдохновенного авантюризма.
Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Фенеон сочетал в себе множество ипостасей: литератора, донжуана, велосипедиста, художественного критика, коллекционера, восхищающегося причудливыми и диковинными предметами, и анархиста (см. ил. 13). В качестве критика и коллекционера он особенно пропагандировал Сёра и какое-то время владел замечательной картиной этого мастера «Купальщики в Аньере», ныне находящейся в Лондонской национальной галерее. Стиль его критических статей отличала язвительная лапидарность. Сравнивая заурядного художника Джона Льюиса Брауна, без конца писавшего лошадей, и Дега, он замечал: «Дж. Л. Браун: кони, жокеи, Общество по улучшению пород лошадей, Булонский лес и т. д. Мсье Эдгар Дега сотворил из этого двадцать картин, а мсье Браун — одну-единственную, растиражировав ее сто раз». Он дал проницательную оценку творчества Тулуз-Лотрека: «Передавая не точную копию реальности, а набор знаков, дающих о ней представление, он запечатлевает жизнь в неожиданных эмблемах».
Его описывали как «дьявольски скрытного». «О чем так выразительно молчит Фенеон? — вопрошал его коллега по галерее Бернхеймов Анри Добервиль. — Нам не дано это знать. Полагаю, в душе он испытывает глубочайшее презрение к своим современникам». Всю жизнь его манили разрушение и гибель, поначалу привлекшие его к политическому анархизму, в основе которого лежала борьба против социальной несправедливости. Для Фенеона анархизм был выражением душевного благородства, а его краеугольным камнем выступала в глазах Фенеона убежденность, что эстетический императив в конечном счете должен превосходить этический. Эта позиция была весьма в духе «конца века». И он воплотил ее в действии.
Фенеон помог своему собрату-анархисту Эмилю Анри подготовить взрыв бомбы в Париже 8 ноября 1892 г. Динамит они спрятали в чайнике. Вклад Фенеона в дело анархизма заключался в том, что он одолжил Анри платье своей матери для маскировки. Свидетели заметили странную женщину с большим свертком в корзине, которую она несла на сгибе локтя. Впоследствии бомба взорвалась, убив шестерых человек. «Какая трогательная история», — писал Фенеон, говоря о взрыве «прелестного чайника на рю де Бон Анфан».
Следующей весной Фенеон уже сам подложил бомбу. Взрывчатку он на сей раз поместил на дне цветочного горшка, а не чайника, а запал хитроумно спрятал в стебле гиацинта. 4 апреля 1893 г. он взорвал ее в ресторане отеля «Фойо» в Латинском квартале. Никто не погиб, и только один человек получил ранение. Фенеона арестовали вместе еще с несколькими подозреваемыми. Он предстал перед судом, но был оправдан.
Куда же лежит путь анархиста после таких деяний? В случае Фенеона — в редакцию почтенного журнала «Ревю бланш», посвященного вопросам искусства, где он и служил с 1893 по 1905 г. Это дало ему возможность «поделиться своими интуитивными прозрениями нового и необычайного», как в области литературы, так и в сфере живописи. Искусство, по мнению Фенеона, являло феномен цвета и никоим образом не сюжета, темы, истории: отсюда то отвращение, которое он испытывал к академизму, и его увлеченность неоимпрессионистическими попытками проанализировать цвет, колорит с научной точки зрения. Новое и необычайное для Фенеона и других сотрудников «Ревю бланш» также включало в себя езду на велосипеде. Фенеон был страстным велосипедистом; высказывались предположения, что этот вид спорта тешил то чувство абсурда, которым он в сильной степени обладал. Согласно менее вероятному предположению, основанному на том, что его статьи часто написаны с точки зрения человека, сидящего за рулем велосипеда, он по временам заменял в «Ревю бланш» спортивного репортера.
В январе 1900 г. Фенеон устроил в помещениях журнала большую выставку картин Сёра; от показа и покупки до продажи — один шаг, и в 1906 г. Фенеон опять избрал новое поприще, на сей раз ремесло маршана, и присоединился к братьям Бернхейм, возглавив отделение современной живописи в их галерее на бульваре Мадлен. Бернхеймы уже продавали работы Боннара, Вюйара и художников группы «Наби», и это не могло не понравиться Фенеону. Он намеревался привлечь к сотрудничеству также своих друзей-неоимпрессионистов: ван Рейссельберге, Синьяка, Кросса и Люса — и выставлять на продажу их работы на постоянной основе. Синьяк высказался по этому поводу скептически. «Феликс пошел работать на этих ничтожеств Бернхеймов, — писал он. — Думаю, нашему другу не перевоспитать этих тупых капиталистов».
Действительно, какое странное перевоплощение террориста: продавать картины тем самым людям, на которых он совсем недавно возлагал вину за царящую в обществе социальную несправедливость, с каковой боролся всеми силами; однако Синьяк ошибся. Фенеону вполне удалось перевоспитать тупых капиталистов, хотя порой он вел с ними дела так, словно обрушивал на них отмщение. Иногда он по-прежнему обнаруживал стремление к разрушению и довольно странно обходился с богатыми коллекционерами. У него было немало клиентов за пределами Франции. Вместе с Анри ван де Велде, графом Кесслером, Юлиусом Майером-Грефе и другими он организовывал выставки современного французского искусства в Германии и в других странах. Его нисколько не волновало «национальное наследие» Франции, он всячески содействовал ничем не сдерживаемому оттоку за границу французского искусства, в величии которого был неколебимо убежден. Он был индивидуалистом и полагал, что картинами следует наслаждаться в одиночестве, как любовной связью. Когда музеи сжимали свои мертвые костяные персты на картине или рисунке, ему делалось не по себе, ведь ему куда более пришлось по душе частное владение картинами, и в роли посредника он временами напоминал даже свата.
Фирма Бернхеймов, торгующая предметами искусства, заявила о себе на рубеже XIX–XX вв. благодаря усилиям основателя Александра Бернхейма и его сыновей Жосса и Гастона. Им посчастливилось привлечь к себе в качестве постоянных клиентов второе поколение коллекционеров импрессионизма, в частности Огюста Пеллерена, Этьена Моро-Нелатона и Поля Галлимара. Даниэль Галеви говорит о «семитическом здравомыслии» Бернхеймов, который в художественном мире занимал позицию скорее не на ученом, а на торговом конце спектра. Фенеон стремился заинтересовать Бернхеймов новым авангардом и познакомить с передовыми художниками. Он неизменно защищал интересы художников, которых вербовал. Подписать контракт с Бернхеймами Фенеон убедил многих талантливых художников: в 1906 г. — Кросса, в 1907 г. — Синьяка, в 1908 г. — Матисса и в 1909 г. — ван Донгена. За многие годы он приобрел и выставил на продажу работы Ван Гога, Сезанна, Сёра, Тулуз-Лотрека, Пикассо, Модильяни и Дюфи. Если Бернхеймы возражали против покупки какого-нибудь авангардного произведения искусства, приглянувшегося Фенеону, он иногда покупал его на собственные деньги. У Бернхеймов он зарабатывал примерно пятнадцать тысяч франков в год, немалую сумму. Если есть большая угроза существующему порядку вещей, чем террорист с бомбой, то это террорист с чековой книжкой. Художникам, с которыми он работал, нравилась его манера обхождения. Да и коммерческой стороной своего ремесла он овладел блестяще. Один из младших сотрудников фирмы Бернхеймов вспоминает: «Каждый раз, когда возникал риск, что сделка сорвется, он бросался на выручку и отправлялся куда угодно: в Англию, в Германию, в Скандинавию». Он неизменно разрешал все конфликты благодаря своей «осторожности, такту, личному обаянию и авторитету… Он не производил впечатления бизнесмена, но был им».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: