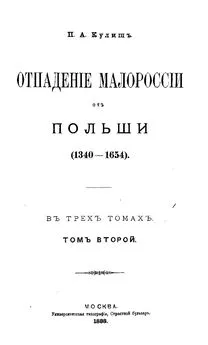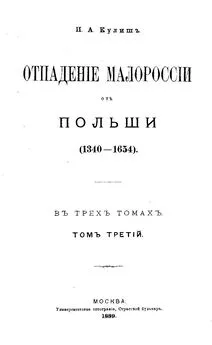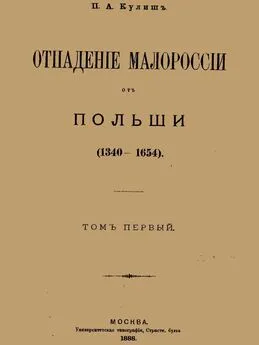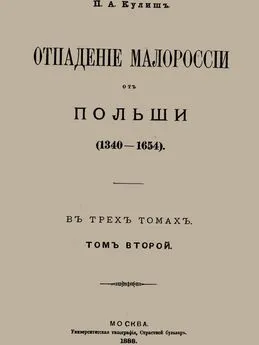Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]
- Название:История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Товарищество Общественная польза
- Год:1877
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография] краткое содержание
История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В самой Германии, откуда приходила к нам даже и греческая наука, и там умственное движение было двоякого рода. В наших учёных сочинениях и учебниках, мы говорим все только о таких людях, как великий славянин Гус, которого и сами немцы называют первым героем германской реформации, да о таких апостолах своеобразной истины, как Лютер, который столь успешно приспособил к посредственной добродетели массы высокую практику любви, доступную весьма немногим, и по ним составляем себе преувеличенное понятие о религиозном и умственном движении, охватившем немецкое общество. Нет, не по сеятелям, а по самой почве, в которую бросаются семена науки, надобно сурть о её распространении. Подготовленную для процветания науки почву представляли в Германии университеты, которых основание началось с 1348 года; но она долго приносила лишь самые скудные плоды. Причиной тому было грубое состояние общества, среди которого появлялись учёные корпорации со своими высшими идеалами и стремлениями. В XV столетии каждый университет делился на коллегии, в смысле товариществ, или на бурсы, в смысле складчины. На языке социологии, это значит то самое по отношению к городскому обществу, что значило муниципальное устройство городов по отношению к государству. Новые учреждения, по причинам чисто экономическим, щедро были одаряемы такими привилегиями, как освобождение студентов от мыта и других пошлин, право свободного прохода и проезда, право охоты и рыбной ловли, и — что всего было для них важнее — корпоративный самосуд. Это показывает, что общество, развивая в себе идею свободы, без которой нет никому житья, пришло к сознанию, что свобода опирается на знание, а знание нуждается, для своего возрастания, в освобождении от того гнёта, который в средние века тяготел над всеми предприятиями рабочего и промышленного народа. Общество выработало в своей среде мыслителей, а мыслители, в свою очередь, усилили его стремление к улучшению своего положения; и вот среди людей, занятых насущными нуждами, явилось учреждение, которому они выпросили или купили у предержащей власти привилегию, ставившую человека науки в положение исключительное.
Мысль основания университета, в своём начале, всегда была высокой и чистой; но всякая жизненная идея, как это известно каждому, теряет часть своей возвышенности и чистоты во время своего осуществления, и лучшие цели общества обыкновенно достигаются сложностью не одних лучших побуждений. Честные и набожные бюргеры средних веков, восприняв мысль о необходимости университета от такого человека, каким был наш Иов Борецкий, или от такого, каким явил себя чешский подвижник Иоанн Гус, хлопотали у предержащей власти об осуществлении этой мысли не столько из любви к просвещению, не столько из преданности к вере, которой охранителем считался университет, сколько из соображений экономических и рассчётов осязательных. С своей стороны, и сословие учащихся — как это ни странно с первого взгляда — стремилось в университеты не столько из любви к науке, сколько из желания пожить привольнее и веселее, чем в каком-либо другом положении. Масса студентов, наполнявших старинные германские университеты, поражает нас своей численностью; но было бы наивно с нашей стороны воображать громадные сборища учёных плащеносцев сосудами знания и пропагандистами научных истин среди людей, так сказать, оглашённых. Лучшие профессоры, например те, которые пошли путём Коперника, имели весьма мало слушателей. Даже Меланхтон жаловался на небрежное посещение его лекций. Причиной тому была невозможность распространить любознательность в обществе, которое всё ещё было слишком сильно озабочено борьбой с феодальным строем жизни. Наука, изолированная от общего течения дел, вращалась в сфере теологоческих умствований. Предметы, менее возвышенные, но, по своей тесной связи с жизнью, истинно философические, оставлялись учёными без внимания.
Физическая сторона человеческой природы ускользала от наблюдательности, устремлённой в беспредельную даль. Об осязательных для чувства и ума явлениях жизни философствовали априорно, уклоняясь от непосредственного опыта. Только с половины XVI века начали за границей правильно пользоваться анатомическим театром, и только в год нашей Люблинской унии дозволено в германских университетах подвергать анатомическому сечению казнённых смертью преступников. Отрозненное от остального мира, корпоративное существование людей науки привлекало к себе изумительное множество молодёжи всех свободных сословий и состояний, но привлекало потому, что её теснил тяжёлый режим средневекового общества. Она бежала в университеты, как наши цеховые молодцы — в казацкие купы, и расставалась с ними, можно сказать, поневоле. Но только немногие из членов учёной корпорации отдавались призванию своему всецело. Эти немногие посвящали всё своё время и жертвовали всеми интересами жизни для расширения круга своих познаний. Будучи профессорами одной науки, они в то же самое время бывали студентами другой; а будучи разом и учителями и учениками, нередко были избираемы в ректоры университета. Зато люди обыкновенные проводили в университетском обществе год за годом без всякой для себя пользы; толкаясь в беспорядочном рынке знаний, усваивали себе привычку много говорить и ничего не изучать; оставались по десяти и по двадцати лет в звании студентов; вели в буршеской среде своей семейную жизнь, и навсегда отвыкали от какого-либо практического занятия. Полуученый и полуневежественный быт этих представителей умственного движения согласовался как нельзя лучше с теологическим характером средневековой науки, с априорной средневековой философией, с блужданием ума за пределами опыта; а попойки, скандальные истории, дуэли и даже вооружённые бунты поглощали время, средства и способности умственно ленивых буршей так точно, как будто это были дела общественные и политические. В 1638 году, в Лейпциге умер столетний студент, посвятивший всю свою жизнь научной праздности и школьной болтовне. Он служит памятником умственной лени, свойственной большинству адептов науки, которое во всех обществах, сословиях, и корпорациях занимается вовсе не наукой и упражняется только в повторении того, что умы деятельные вырабатывают усиленным трудом и оживляют природным талантом.
Не входя в исчисление предметов, которые преподавались в германских университетах, замечу только, что до времён нашей церковной унии, не преподавали там ни истории, ни естествознания, и хотя Библия планировалась на латинском, греческом и еврейском языках, но язык народный, то есть немецкий, вовсе в науке не участвовал. Одно это обстоятельство даёт нам возможность определить место, занимаемое в реальной жизни немца истинной наукой и истинным просвещением. Оно не было ни выше, ни шире того места, какое занимали в ней истинное христианство и истинно христианское благочестие, поставленные столь высоко своими первыми проповедниками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]](/books/1100112/pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom.webp)