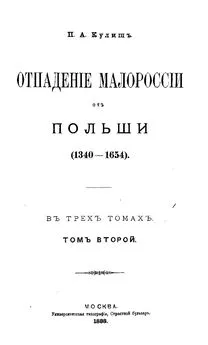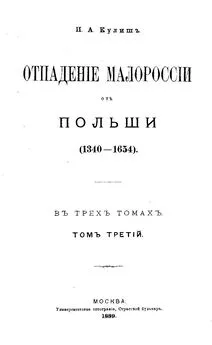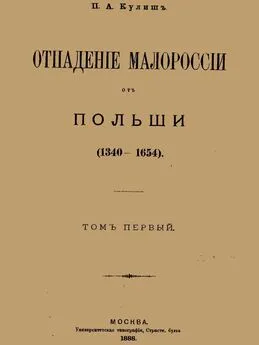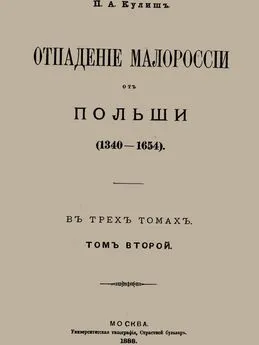Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]
- Название:История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Товарищество Общественная польза
- Год:1877
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография] краткое содержание
История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но люди посвоенравнее, люди с умом, как говорится, беспокойным, так называемые вихреватые головы, которым отмеривалось крупного гороху вдвое и втрое против надлежащей порции, эти люди сворачивали с проторенной дороги жизни, ходили, что называется, мановцами, растекались во все стороны, подобно взбунтовавшимся краковским бурсакам, и куда бы ни бросила их судьба: в кипящую ли умственным безначалием Неметчину, в богатую ли награбленным у христиан добром Турецкую землю, [68]или на Запорожье, где не отказывали в пристанище никому, и где никого насильно не удерживали, — всюду они набирались того общего знания вещей, которое в полуварварских гражданских обществах всегда приносило больше реальной пользы, нежели распространение организованной школьной науки. Это знание, далёкое от научной последовательности, тем не менее способствовало развитию умов, смягчению нравов, установке характеров, чего нельзя сказать о тогдашней науке.
Наши кияне XVI и XVII века вели такую тяжкую борьбу за существование, о какой никто теперь не думает, но зато они пускали в ход все свои способности. Умственный капитал был у них постоянно в обороте. Не Краков и не Варшава, помышляли о целости их жизни и имущества. Дажe «протектор православия» и воевода Киевской земли, князь Острожский, сосредоточил все попечения о защите края на своей резиденции, и предоставил киянам заботиться самим о городских укреплениях. Так точно и в борьбе за унию городу Киеву отдавалось на выбор: или идти дорогой Витебска, который довёл дело до кровавой катастрофы; или подражать Львову, который даже в православном епископе, Гедеоне Болобане, имел гонителя церковного братства, который низошёл с высоты самодеятельности молча, и мало-помалу сделался самым прочным седалищем унии. Но потому ли, что к Киеву, со времён Сагайдачного, льнуло казачество, или потому, что древние святыни киевские были нравственными твердынями православия, Киев, слабый в начале унии город, оказался необоримым для неё в то время, когда она, силой и соблазном, восторжествовала более или менее над Львовом, Полотском, Витебском, Вильной. Киевское общество отличалось в эту бедственную эпоху самодеятельностью, и чем больше развивалось в нём то, что англичане так хорошо зовут selfhelp, тем выше стоял наш умственный уровень, видный потомству лишь по результатам тогдашних деяний.
Несравненно важнее не только школьного, но и реального умственного движения, в эпоху Борецкого, была религиозность, воссиявшая с Афона и, путём живой проповеди, разлившаяся в нашем низменном обществе, от славетных райцев и лавников до последнего винника, броварника и могильника. У нас в то время все были религиозны, даже и такие люди, как барышники, только что каждый понимал богоугодность или благочестие по-своему. Но чувство религиозности, каково бы оно ни было в низших классах общества, поддерживалось опять-таки не школами и не школьной литературою: оно поддерживалось, как мы видим из гомерической истории наших пиратов, во-первых, «Святым Письмом», сопровождавшим даже и тех, которые, по смыслу народной сатиры, в своей одичалости, не умели уже различить церковь от скирды сена, [69]а во-вторых, уважением к древности предания. Новость униатского учения сама по себе была для простых умов подозрительна, хотя бы им и не внушали православные попы, что папа и антихрист — одно и то же; [70]а те стеснения, которыми сопровожалась уния, пробудили в сердцах дремлющее чувство религиозности сильнее, нежели могла бы это сделать самая красноречивая пропаганда. Григорианский календарь, запрещением работать и торговать в дни римских праздников, коснулся весьма чувствительной в мещанском сердце струны. [71]Люди с самыми грубыми наклонностями заговорили о спасении души, и на своё убогое духовенство, с его раздражённой завзятостью, стали смотреть, как на вещателей Божией правды. Во времена религиозной терпимости, наши попы могли представляться народу, как в наше время, вымогателями роковщины и сборщиками разных платежей за церковные требы. Равнодушно, чтоб не сказать больше, относился тогда народ к приходскому священнику, которого ничто, кроме одежды, не отличало от полушляхтича, и который проявлял свой энтузиазм только в делах, лично к нему относившихся. Но когда тот же самый священник подвергся преследованию, когда нищета проступала на всём быту его в поразительных знаках своих, когда бегство, бесприютное скитанье, а нередко и смерть, сделались условиями стойкости его в православии, — нравственный образ его изменился в глазах народа. На убогого и гонимого священника стали смотреть, как на пророка, как на человека, которому открыты тайны иного мира, мира верховной справедливости, где каждому воздаётся по заслугам его; стали смотреть, как на указателя пути в ту жизнь, где, по народному верованию, души стяжательные и жестокосердые обречены на муки алканья, жажды и позднего раскаянья, а души благотворительные и кроткие наслаждаются изобилием и спокойствием, которых они были лишены по сю сторону могилы. Скитающийся бесприходный священник самим неуменьем своим возвести евангельские притчи к высоким идеям, которые в них вложены, способствовал восприятию веры массами, которым, при их невежестве, церковное богослужение не представлялось, как нам, священной историей ветхого и нового завета. Каждый захожий монах, каждый даже церковный причётник производил тогда сильное впечатление на умы рассказами о том, ради чего противники унии оставались в древнем благочестии, ради чего терпели убожество, гонения и в своих странствованиях рисковали быть убитыми или замученными в темнице, как ослушники законных властей и возмутители народа. Какова бы ни была пропаганда унии, чисто ли обрядная, или учительно религиозная, общественное мнение наших чернорабочих и промышленных классов стало в непреклонную оппозицию с её творцами. Конечно, при тогдашнем состоянии богословской пропедевтики, каждый член гонимой русской церкви, в нисходящей градации научного или религиозного развития, более или менее отклонялся от того смысла православия, который оно черпает из первого своего источника; но связь между самыми учёными и самыми тёмными людьми в православной общине от этого не прерывалась. И православный архиерей, и православный мещанин, и казак, отвыкавший бывать в церкви по одной причине, и мужик, не видевший богослужения по другой, одинаково были убеждены в спасительности веры своей. Убеждены были в её святости и те, которые восходили к духовному пониманию Божия царства, и те, для которых помершие души были всё ещё живые люди, только поставленные на том свете в такие отношения, в каких желательно было бы видеть их на этом. [72]Между наивной фантазией простолюдина и просвещённым умозрением православного экзегета столько было ступеней умственного прозрения в существо религии, сколько мог насчитать Иаков на той лестнице, которая отделяла его покоящуюся на камне голову от развёрстых перед его умственным оком небес. Но, принадлежа к одному и тому же народу, часто к одному и тому же классу общества, экзегеты наши не были отрезаны от простолюдинов, а только отделены от них градацией более утончённых понятий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]](/books/1100112/pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom.webp)