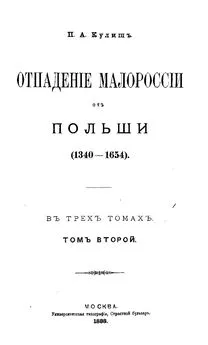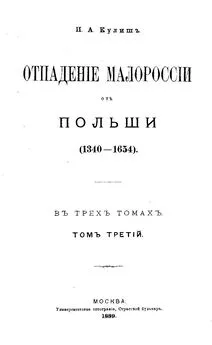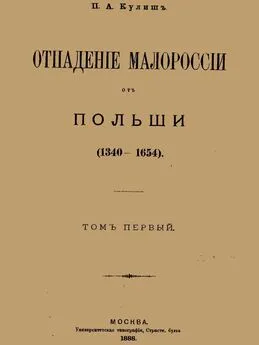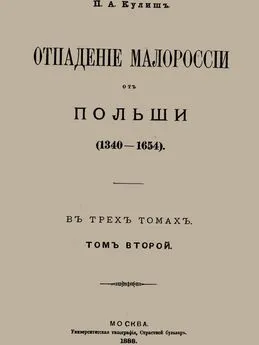Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]
- Название:История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Товарищество Общественная польза
- Год:1877
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография] краткое содержание
История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Добре буде запорозцям
И под Турком жити.
Когда таким образом поколебалась политическая связь русского народа с польским в самых высоких и в самых низких его предстявителях, то есть в духовных иерархах и в атаманах днепровской вольницы, те и другие стали промышлять о себе сами, как члены тела, от Польши независимого.
Низшие-то представители, казаки, делали это и прежде, по врождённому им своевольству. Они составляли в Речи Посполитой элемент, которому Volumina Legum долго придавали общее название ukrainna swawola. Они не были сами по себе отдельным сословием, не принадлежали ни к какому сословию по государственному праву, не подчинялись ни шляхетским, ни мещанским властям и, в качестве казаков, не владели землёй. [110]Казак, точно птица из постороннего яйца, выводился в каждом гнезде, не только в мещанском и шляхетском, но даже и в панском. Все отцы порядочных семейств рисковали увидеть своего сына в казацком товариществе, наперекор собственной и даже королевской воле. [111]Только успехи гражданственности отрознили панские дома от необузданной, антикультурной корпорации, и тогда ремесленная молодёжь быстро окрасила казачество в демократический цвет. Казакам, начинавшим своё поприще с расторжения семейных уз, было естественно рвать и политические связи свои. В этом отношении бегство днепровских казаков к донцам при Стефане Батории было началом перехода их под московское владычество, а турецкая служба «казака Байды» (князя Димитрия Вишневецкого) была пророчеством принятия казаками турецкого подданства согласно воскликам Богдана Хмельницкого. [112]
Что касается до русского духовенства в Речи Посполитой, то оно стало пренебрегать государственными интересами Польши всего больше в лице тех иерархов, которые писали о себе к царю, что они, будучи изгнаны из своих епископских столиц, теснятся в маленьком уголке на Украине, в Киевской земле, — всего больше в лице тех, которые жаловались, что питаются с братией работой собственных рук, и молили царя о милостыне, «чтобы труд их не был тщетен и седины их чтобы не были посрамлены от врагов их». Для этих людей присоединение Малой России к Великой сделалось вопиющею потребностью, как в нравственном, так и в материальном отношении.
Нам неизвестно, что говорил и что слышал в Москве уполномоченный Исаии Копинского в 1622 году; но высказанная Копинским мысль продолжала развиваться в киевском духовенстве, а напор со стороны папистов заставлял таких людей, как Иов Борецкий, ещё настойчивее внушать казакам, что самое надёжное для них прибежище — Москва. Казаки внимали теперь таким внушениям прилежнее прежнего. Повторение над ними крутой меры, завещанной королевскому правительству Баторием, возобновило в их памяти поголовное бегство на Дон, а угроза Конецпольского напомнила им поражение Лободы и Наливайка под Лубнями. И вот, в феврале 1625 года, Запорожское Войско, колеблясь между надеждой одолеть Конецпольского и страхом найти в нём нового Жовковского, который так ужасно побил казаков в 1596 году, упросили Борецкого (а может быть только согласились на его предложение) устроить им посольство в Москву и во главе его поставить титулярного луцкого и острожского епископа Исакия Борисковича. Епископ Исакий был самый близкий к Иову человек, впоследствии его душеприказчик. В письме своём к московскому патриарху Борецкий рекомендовал его способным к сохранению царской тайны. Из этого видно, что существенная часть посольства заключалась не в том, что дошло до нас на бумаге. [113]
Борецкий действовал в Киеве с крайней осторожностью, будучи на виду у королевских чиновников, постоянно пребывавших в киевском замке, у официалистов униатского митрополита, заведовавших предоставленными ему церковными имуществами, и у иезуитов, которые устроили свой коллегиум против братской школы, составлявшей предмет особенного попечения митрополита православного. Но когда он выезжал в Трахомировский монастырь, там он мог делать что ему угодно, не опасаясь никаких соглядатаев. «Там была его власть», по словам московских вестовщиков. Трахтомиров с его полями и угодьями составлял единственную юридическую собственность Запорожского Войска, которого члены владели многими грунтами, пахотными полями и различными «входами» в пограничных украинских городах и местечках, в том числе и в самом Киеве, но владели не по званию казаков, а по родовой принадлежности своей к шляхте или мещанам. Самое Запорожье de jure принадлежало королю, и именно для того, чтобы казаки не простирали на него войсковых прав, пожалован был им из королевских имений Трахтомиров, для содержания казацкой арматы и казацких инвалидов. В смысле исключительной казацкой собственности, монастырь Трахтомировский находился в неограниченной власти излюбленного казаками митрополита. Выехав сюда в начале много обещавшего и грозного 1625 года, Борецкий устроил единовременно три посольства в Москву: одно от турецкого царевича Александра Ахии, другое от Запорожского Войска, третье от православных архиереев.
Турецкий царевич Александр Ахия не мог иначе появиться на Запорожье, как заручившись благословением православного митрополита на предпринятое им дело освобождения славян и греков из под агаренского ига. Он представил такие доказательства своей царственности, что Борецкий никак не мог видеть в нём самозванца. Этот ловкий, не молодой уже пройдоха умел пленить живое воображение инока перспективой торжества восточной церки над западной там, где католики оказались бессильными со всеми своими крестовыми походами и со всеми интригами рыцарей церковного плутовства — иезуитов. Бывалый, мужественный искуственно смиренный и образованный жизнью при многих европейских дворах, Александр Ахия показался Борецкому вестником пророчества философа Леона, сохранённого в книге епископа патрасского Мефодия и распространённого по всему русскому миру: что во дни царя Михаила придёт от севера воинственный народ и освободит Царьград из рук неверных. Борецкий способствовал заключению договора между Ахией и запорожцами, а теперь написал о нём к московскому царю, к его отцу, к разным влиятельным на Москве лицам и, вместе с грамотой самого царевича, отправил посла его Марка Македонянина, под руководством запорожца Ивана Мартыновича.
В то же самое время отправлены им из Трахтомирова тринадцать человек уполномоченных Запорожского Войска, под предводительством войскового писаря Алексея Яковенка. Это второе посольство маскировало и обеспечивало от дорожных случайностей первое. Черкассы, Переславль, Барышовка и Нежин — ни в одном из этих пунктов казацкого маршрута никто не покусился бы на обычный в то время у местных урядников грабёж, видя довольно многочисленную кавалькаду; а ездить казакам в Москву для испрошения у царя денежной подмоги на войну с басурманами было делом обычным. Таким же обычным делом было и путешествие в Москву монахов за «милостыней на церковное строение». Однако ж в уцелевших до нашего времени отписках пограничных воевод нигде не значится посланный тогда же Борецким к царю епископ Исакий. Может быть, казаки маскировали его так же, как и посольство царевича Александра. Может быть, по наказу Борецкого, и путивльские воеводы не должны были знать, что в Москву с казаками едет православный епископ, и может быть — имя Исака Степанова, сообщённое путивльскими воеводами царю в списке прочих имён, принадлежало путешествовавшему incognito епископу. Во всяком случае речь, которую должен был держать в царской думе Исакий Борискович, требовала строгой тайны: это была просьба к царю от Запорожского Войска и кроющихся под его эгидой православных архиереев взять Малороссию под свою высокую руку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]](/books/1100112/pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom.webp)