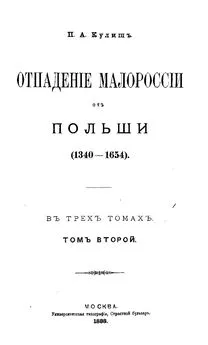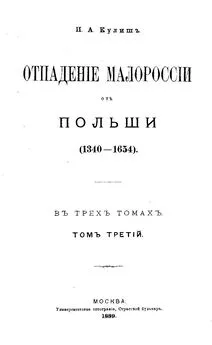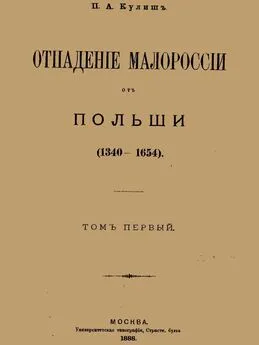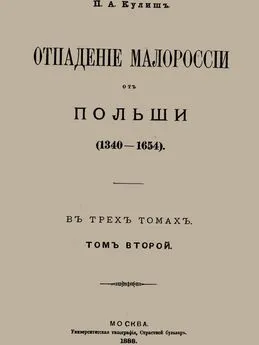Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]
- Название:История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Товарищество Общественная польза
- Год:1877
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография] краткое содержание
История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так размышляли царские бояре на простонародный лад. Восточный вопрос, поднятый в западной Европе, столетие назад, папой Львом X, представился теперь православным москвичам во всей своей загадочности. Не о господстве над христианским Востоком помышляли они, как римские политики, а о Божиих судьбах, которые должны над ним совершиться. Но кто же этот человек, избранный, по-видимому, божественным промыслом для восстановления падшего на Босфоре православного царства? Действительно ли он то, за что выдаёт себя? В Риме не доискивались, кто он, а домогались от него только готовности ввести в своём царстве латинство. По крайней мере так рассказывал Ахия о своих переговорах с римским папой. В католической Европе, подарившей Россию двумя самозванцами, вопрос о тождестве лица был вопросом последним. Там думали, что Господь и путём обмана может устроить торжество единой истинно христианской церкви. Ни возрождение классического гуманизма, ни возрождение точных знаний не открыло умам западных политиков того лёгкого пути, который указывает правда основного факта. Этот лёгкий и естественный путь открывала сравнительно невежественным московским политикам их церковь, строго, до буквальности строго державшаяся апостольских преданий. Отложив вопрос о том, как быть с турецким султаном и православным Востоком, они задались мыслью: удостовериться в неподдельности своего прибежанина.
Решено было удалить Ахию от пограничья, где пребывание его могло сделаться известным иноземным людям, перевезти его во Мценск и там подвергнуть самому тщательному допросу, отнюдь не давая ему заметить, что он окружён днём и ночью самой бдительной сторожею. Для исследования подлинности речей Ахии, из Москвы присланы дворянин Дмитрий Лодыгин да дьяк Григорий Нечаев, люди по-своему образованные, начитанные в Библии, в русских летописях, и в других книгах. Донесения этих следователей обнаруживают в них не только искреннюю преданность интересам правительства, но и такт людей благородных, принадлежавших к лучшему обществу своего времени. Во множестве дружеских бесед с Ахией, изложенных ими подробно на бумаге, они своими искусно поставленными вопросами разоблачали проходимца, умевшего внушить к себе доверие представителям европейской дипломатии, но ни единым словом не дали ему заметить, что ловят его в собственных его хитростях. На это следствие употреблено ими несколько месяцев, в течение которых они маскировали перед Ахией царскую политику весьма ловко, сохраняя притом достоинство своего государя. Наконец в Москве решено было, что Ахия — такой же самозванец, каким был и Лжедмитрий. Следовало бы ожидать, что дикая, как обыкновенно представляют, Москва упрячет его в какое-нибудь безвестное заточение или отправит на тот свет. Но Иов Борецкий, посылая своего гостя за московский рубеж, взял его безопастность «на свою душу». Этого было достаточно для того, чтоб Александр Оттоманус не лишился в Московщине ни жизни, ни свободы.
Здесь надобно заметить, что ни царь, ни его отец патриах, от имени которых приходили во Мценск все указы, не проронили слова, выражающего их мнение о личности Ахии. С другой стороны, Лодыгин и Нечаев, в своих отписках на Москву, ограничивались только сообщением расспросных речей, а с Ахией не переменили до последней минуты своего величаво учтивого тона. Но и в Моске и во Мценске так ясно понимали, в чём дело, как бы между одними и другими исполнителями царских велений происходила самая интимная переписка.
По отношению к киевскому митрополиту царские следователи также вели себя чрезвычайно деликатно. В числе провожатых Ахии находился приближёный к Иову Борецкому священник Филипп. Подобно самому Ахии, он должен был часто беседовать с москвичами, и хотя москвичи видели ясно, что Иов Борецкий поддался обману пройдохи так же, как и многие в католическом мире, но не высказали этого ничем в своих сношениях с его поверенным. Если сам Иов, заключённый в тесный круг общежития, ронял своё достоинство в глазах московских царедворцев, как митрополит, то они, спокойным и важным отношением к делу Ахии, поддержали его достоинство на подобающей ему высоте.
Турецкий Царь днепровских аргонавтов, видя, что с Москвой нельзя так сладить, как это удавалось ему с католическими дворами, хлопотал об одном: чтоб его отпустили восвояси через Днепр или по крайней мере через Дон. Но в том и состояли опасения Москвы, чтобы самозванный султанич не затеял с казаками похода, в котором турки неизбежно видели бы завоевательную политику московского царя. Восторжествуют ли над Магометами оказаченные заговорщики, или же мусульмане докажут ещё однажды превосходство своей централизованной силы над разъединнёнными силами гяуров, — и в том и в другом случае только что поднявшемуся на собственных развалинах царству представлялась работа не по силам. Просьбы Ахии отклонялись то под предлогом безопасности его покровителя, киевского митрополита, то под предлогом его собственной безопасности. Наконец стал он просить царя о пропуске его в Западную Европу через Великий Новгород. И этот путь найден в Москве для него опасным. Между шведским и польским королями в той стороне шла война, и он мог бы впасть в руки врагов своих, поляков, которые прислужились бы им турецкому султану. В переводе на язык московский, это значило, что поляки сведали бы о пребывании турецкого самозванца в России и поссорили бы царя с султаном. Один только был Ахии выход из России — через Архангельский город; но он должен был дождаться прихода иностранных кораблей в архангельскую пристань. Наконец настало время его освобождения из Мценска. Ахию отправили к Архангельскому городу за приставами, которые были нужны не столько для его безопасности, сколько для того, чтобы след его пребывания в России не обнаружился перед иноземными купцами. Таким образом турецкий самозванец выпровожден был из России благополучно, и даже его доверчивый покровитель Иов Борецкий не был пристыжен за своё увлечение. Но подарков от царя не получил Ахия, как прежде. Только на дорожные издержки было отпущено ему полтораста рублей государева жалованья. [118]
Вернувшись в католическую Европу, Ахия снова сделался орудием легкомысленной политики тамошних дворов, и лишь через семь лет после его пребывания во Мценске великий герцог флорентийский поручил приближённому к себе лицу исследовать, в самом ли деле он то, за что выдавал себя. [119]
Ещё блистательнее заявил себя здоровый толк простоватых московских дипломатов в двух других вопросах, примкнувших к мудрёному делу об Александре Ахии.
Днепровское казачество и киевское архиерейство представили ей такие дилеммы, над которыми призадумалось бы любое европейское правительство. Отчина русских государей, о которой ещё Иоанн III сказал торжественно, что будет её домогаться, сколько ему поможет Бог, просилась теперь к царю в руки устами сорока тысяч так называемых вольных казаков, и восстановленная в Киеве православная иерархия умоляла его взять православные церкви со всей Малой Россией под свою державу. Казалось бы, чего проще? Военная сила, вторгавшаяся недавно в Золотой Рог и готовая идти с Александром Ахией для завоевания Царьграда, по одному слову московского царя, займёт Киев со многими другими русскими городами во имя русского единства. Если же царь полагает, что этому легко вооружённому ополчению не удержать своей позиции в Малой России до тех пор, пока Великая Россия соберётся с силами на поддержку казацкой завзятости, в таком случае посольство Иова Борецкого предлагало ему другой план действий для торжества над гонителями православия: казаки, сколько их ни есть, все перейдут в Московское царство, а с ними укроются от иноверных напастников и православные архиереи южнорусские. Ни одному государю не предлагало подданства сорокатысячное войско, известное своим бесстрашием во всём христианстве, — разумеется, со множеством казацких семейств и казацких подпомощников, — и притом войско, как можно было думать, совершенно послушное внушениям преданных «восточному царю», архиереев. Казалось бы, Россия, приняв за благо сделанное ей предложение, вдруг перевесила бы Польшу, которая не более, как четыре года тому назад, отразила под Хотином турецкое нашествие только по милости казаков Сагайдачного. Но в том и дело, что в Москве не прельстились кажущимся. Исакий Борискович, говоривший, как надобно думать, весьма убедительно, [120]встретил у царских советников, у того же князя Черкаского и состоявшего при нём дельца Грамотина, ответ, поражающий своей холодной, трезвой глубиною:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]](/books/1100112/pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom.webp)