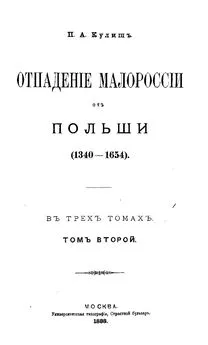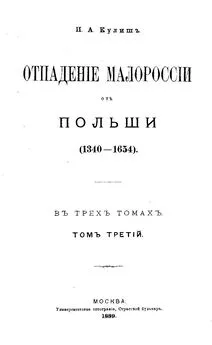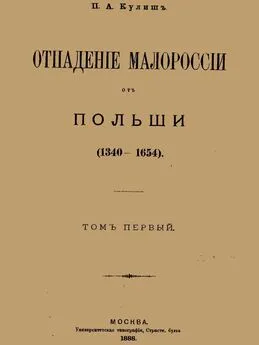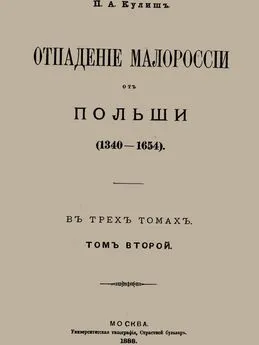Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]
- Название:История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Товарищество Общественная польза
- Год:1877
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография] краткое содержание
История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вся история этого края, со всеми своими радостями и печалями, со всеми своими героями и злодеями, со всем величием начинаний и ничтожеством конечных результатов, составляет лишь один акт громадной драмы, которую разыграли десятки миллионов людей на великой арене между двумя хребтами гор и четырьмя морями. Природа, распределяя воды по бассейнам и их притокам, нагромождая массы гор в виде неприступных ворот и неодолимых замков, засевая дремучие леса и стеля полосы урожайного чернозёма от моря до моря, от хребта до хребта, сказала: «Здесь быть громадному государственному хозяйству. Здесь быть устою известной человеческой идеи, доколе человечество не выработает более человечной». Люди не поняли намерений природы, не уважили силы её, презрели её непреложные веления, и порвали на куски достояние, имеющее всю свою цену только в совокупности. Но начался многовековой спор за границы, намеченные по произволу временно сильных, и вопрос о разграничении обратился мало-помалу в вопрос о единовластии. Кому же властвовать нераздельно между гор и морей, которыми сама природа наметила границы громадного государственного хозяйства? Желая властвовать здесь в силу своего единения с цивилизованным миром, ляхи искали подмоги в европейском просвещении; но их жестоко обманули в Европе: взяли с них всё, что можно было взять в пользу европейского общества, и наградили их всем, что есть худшего в антиславянской цивилизации. Желая властвовать здесь в силу древнего займа своего, русичи обратились к собственным ресурсам: к русской выносчивости, к русской готовности на смерть в виду постыдного плена и, наконец, к русской мстительности, наследственно переходившей от предка к потомку. Других ресурсов у них не было; не было у них ни учителей, ни помощников; и вот они, испивая шеломами Дону на востоке и Вислы на западе, до тех пор очищали место для своего широкого хозяйства, пока наконец не с кем стало и спорить. В этой многовековой борьбе за своё быть или не быть, в этом настойчивом, иногда сбивчивом, но вообще верном своей задаче соединении в одно громадных пространств для каких-то важных целей человечества, суждено было играть замечательную роль стране, отгороженной от Европы Карпатами и обращённой лицом к великому русскому миру. Новые, можно сказать, случайные обладатели этой страны, ляхи, не обратили внимания на серьёзный намёк природы, не посмотрели и на указания исторических преданий, управляющих симпатиями и антипатиями народов. Они своё займище в русской земле примкнули к чуждому для него миру человеческой деятельности, и этим обрекли себя на печальную участь — быть вечными иностранцами среди туземцев. Ошибка противоестественного захвата повела их последовательно к другим ошибкам, которые с каждым столетием затрудняли их всё больше и больше. Герои по своей натуре, чужеземные обладатели отрозненной Руси были не что иное, как похитители в глазах того народа, который они весьма усердно старались наградить благами западной цивилизации. Они защищали русский народ от неверных во имя чуждой ему веры; просвещали ум его во имя чуждых ему преданий; сливали его в одно социальное тело с собой посредством разлуки с гробами его предков.
И вот перед нашими глазами XVI и XVII век Червонной Руси, век усиленной колонизации наших пустынь, усиленной борьбы за неё с азиатскими хищниками, усиленного стремления к европейской культуре, усиленного подавления в русской земле русской народности: картина полная жизни, блеска, великих надежд, беспримерных несчастий и политического безумия. Эту картину историки показывают нам в изображаемых ими деяниях иноплеменных народов. Между тем она так тесно соединена с общими явлениями русской жизни, что без неё в русской истории остались бы неясными даже и такие великие события, как слияние разобщённых областей в систему государственного единоначалия.
В эпоху Сигизмунда III, испортившего на Руси работу всех своих предшественников, какова бы ни была она, — бытовой характер Червоннорусского и Подольского края, или так называемого вообще Подгорья, определяется словом шанц . Так местные жители характеризовали своё вечное ожидание и отражение ордынцев в мольбах о помощи, обращённых к королю и сенату. Этот широкий шанц, два-три поколения назад, видал ещё казакующих, то есть воюющих по-татарски, князей и панов, которые, по выражению геральдика Папроцкого, стояли против азиатской силы, как мужественные львы и жаждали одной кровавой беседы с неверными. Но в конце XVI столетия, интересы хозяйственные воспреобладали у русской шляхты над интересами защиты русской земли от новых печенегов и половцев. Казаки, размноженные путём добычного героизма с одной стороны и хищнических вторжений с другой, мало-помалу отособились от шляхетных «товарищей своих», [139]и сделали главным седалишем силы своей, вместо берегов Днестра и Бога, Поднеприе. Это было разделение одного и того же воинственного общества на казаков-домовников и казаков-бездомовников, что почти соответствовало казакам-дворянам и казакам-простолюдинам. Шляхта продолжала казаковать на аванпостах колонизации русских пустынь, но название казак отвергнула, как унизительное для неё. Казаками назывались уже только те шляхтичи, которые, из крайней нужды, или для спасения шеи своей от королевского меча, входили в состав промышленно-военной корпорации, именовавшейся Запорожским Войском. Такие оказачившиеся шляхтичи делали, в своём лице, уступку демократическому элементу русского народа. Они чаще и чаще встречались рядом с панами чисто рыцарского характера, по мере удаления от Днестра и приближения к Днепру, или по мере того, как густонаселённый край переходил в украинскую пустынность. В той же самой постепенности уменьшалась утончённость быта вместе с внешними отличиями аристократа и плебея, так что члены одного и того же шляхетского дома — на Днестре оставались панами, а на Днепре казались простолюдинами, и забывали о фамильном гербе своём. Деление Руси на шляхетскую и казацкую, столь резко проявившее себя в Хмельнитчину, было намечено издавна. Аристократическое начало, поддерживаемое на Поднестрии родовитым рыцарством европейским, никло на Поднеприи под влиянием рыцарства азиатского, которое родом не считалось и никаких гербов не знало. Во времена Папроцкого, у подолян ещё нельзя было отличить по одежде слугу от пана. Во времена Борецкого, уже только на Украине можно было видеть первобытную простоту военного быта. Велика была разница в безопасности между окрестностями Львова, Самбора, Перемышля, Санока и окрестностями Черкасс, Канева, Корсуня, Василькова, даже самого Киева, смотревшего с русского берега Днепра на татарский. Такова же была разница в богатстве, домашней обстановке, формах общежития. Такова же разница была и в том, что называлось тогда просвещением. Но вместе со всем этим, такова же была и градация латинопольского элемента, постепенно переходившего в чисто русский, как менее культивированный.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Пантелеймон Кулиш - История воссоединения Руси. Том 3 [вычитано, современная орфография]](/books/1100112/pantelejmon-kulish-istoriya-vossoedineniya-rusi-tom.webp)