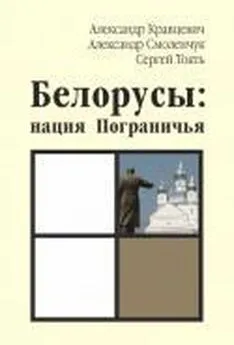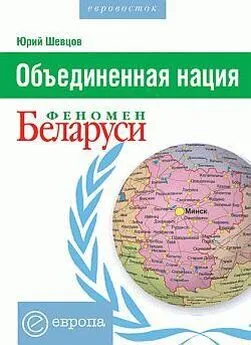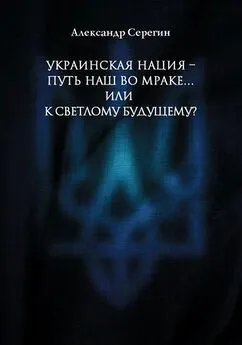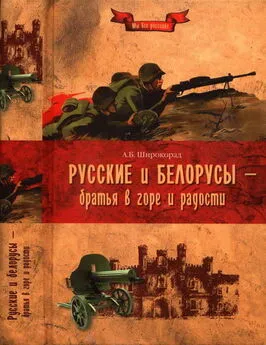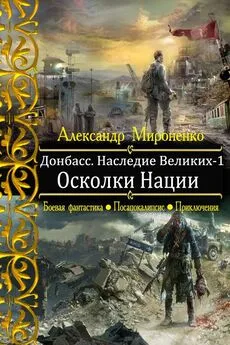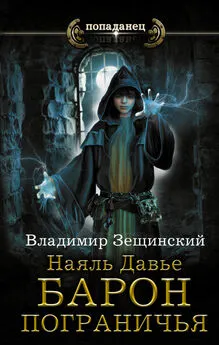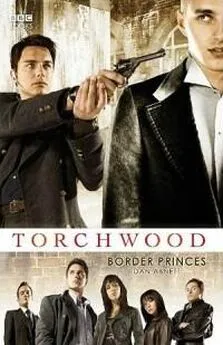Александр Кравцевич - Белорусы: нация Пограничья
- Название:Белорусы: нация Пограничья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЕГУ
- Год:2011
- Город:Вильнюс
- ISBN:978-9955-773-47-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Кравцевич - Белорусы: нация Пограничья краткое содержание
Белорусы: нация Пограничья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Чужыя былі гэтыя парцізаны. Яны спачатку забіралі хлопцаў маладых, мужчын да сябе насільна, а потым выгнали «Нам самім няма чаго есці, а вы тут чаго шляецесяі» Якія ж гэта парцізаны! Былі ў нас парцізаны плахія (жительница д. Тушевая, 1925 г.р., АС.2004).
Очень опасным было то, что на партизанские действия оккупанты отвечали карательными акциями, направленными преимущественно на мирное население белорусских деревень. Резкие оценки партизан прозвучали, например, в «партизанской» деревне Тушевая Городокского района. Расстрел всего мужского населения деревни и ее сожжение было наказанием за убийство партизанами немецкого солдата.
О немецких репрессиях в ответ на действия партизан говорили во многих деревнях восточного Пограничья Беларуси:
— [...] Яны Возкі спалілі, а патом Вольску спалілі, разам з людзьмі спалілі [...] Спальвалі вёскі немцы. А чаго? Парцізаны падарвалі браніпоезд (жительница д. Александровка, 1928 г.р., АС.2004).
Насилие со стороны партизан, сожжение деревень карателями создавали атмосферу настоящего апокалипсиса. Жители деревень Слонимского района припомнили возрождение архаических способов спасения деревни и ее жителей:
— ...А тутука за ноч (я яшчэ малая была) мужчина храсты пастаўлялі чатыры, а бабы напралі-наткалі чатыры ручнікі, выткалі, дзярэўню ўсю аснавалі три разы ніцьмі. У суботу — нядзельку хадзілі, маліліся, спявалі... (жительница д. Нагуевичи, 1934 г.р., АС.2005).
— ...Усё рабілі за адну ноч. Мужыкі храсты зрабілі, а жэншчыны напралі таго льну, наткалі палацэнца i ўсю дзярэўню абвялі тры разы ніткамі.
Як веска начынаецца i задамі ішлі-ішлі i нітку цягнулі. Гэта аберагала ўсю дзярэўню. Эта ўсе людзі рабілі самі ад сабе. Ніхто не спаў. I дзеці нават хадзілі. Рабіліўсё па-прастому. І ўсё зносілі жэншчыны, хто што, хто што. Адна прадзе, другае тчэ, трэцяя снуе, чацвёртае — тое робіць. Ткалі ў Мілашкі. I Каліноўскі нешта рабіў. Пралі ў яго. У двух хатах ткалі, бо чатыры ручнікі ніза што не выткалі б (жительница д. Нагуевичи, 1928 г.р., АС.2005).
— ...Як сталі ўжэ немцы выбіваць i сёла паліць, то за ноч храсты пастаўлялі, іручнікоў наткалі, i вячэру зрабілі. Цэлы дзень пасцілі, нічаво не елі, а вечарам трохі поснага паелі. Збіраліся эта рабіць у адной хаце. Рабілі гэта, кабБог спас сяло. Каблюдзі засталіся.... (жительница д. Загритьково, 1922 г.р., АС.2005).
— ...У вайну хадзілі па дзярэўне, храсты стаўлялі... У ночы мужчыны храсты пастаўлялі. I там ля кладбішчаў у нас дарога была. I там пастаўлялі. А бабы сабраліся, і ў насручнікі ткаліўночы, напралі i ткалі... І ўжэ павесілі, каб напроціў вайны. За адну ноч усё гэта рабілі. Ніхто не спаў. Сабраліся ў адзін дом. А гэтак хадзілі вечарамі пад крыжы ды ўсё маліліся. Такое адзін раз было. Так згаварыліся. Сабраліся бабы ткаць ручнікі, а мужчыны храсты ставілі. Я прала ў тую ноч. Ці дапамагло, Бог яго знае? Засталася дзярэўня (жительница д. Загритьково, 1928 г.р., АС.2005).
Эти архаические обряды («абудзённікі») свидетельствовали об исчезновении последних надежд на «своих», на человеческую помощь. У «абудзённіках» проявилась вся сила «традиционного общества», которое внешне разрушалось под давлением эпохи модерна, но продолжало жить как миф, интуиция, вера. Нерациональное восприятие мира «прорастало» через рационализм модерна.
Если существование партизан было связано с наличием лесов, то старосты и полиция — это повсеместное явление. Старосты обычно были «своими» (часто до войны они занимали должности председателей колхозов) (B04M.KKW/AS). Старост выбирало как местное население, так и назначали немцы из мужчин, что оставались в деревне. Часто это были инвалиды или, как заявили в д. Гривец (Маслаковский сельский совет), «обычные нетрудоспособные» (B04M.Hryw.MZS/NS.0S). Оценка деятельности старосты полностью зависела от характера взаимоотношений, которые сложились между ним и деревней. Встречался как позитивный образ спасителя (Праз яго мы выжылі), так и негативный образ (Баяліся слова сказаць, каб незабіў). Старост в отличие от полиции не всегда отождествляли с немцами. Часто припоминали, что он отвечал за хозяйство...
— Каму харошы, каму плахі, усім не ўгадзіш (B04M.Len.MPM/NS.0S);
— Быў падусі бочкі гвоздзь, i для партызанаў, i для паліцаяў (B04M.Abr. Jad/NS.OS).
В воспоминаниях о партизанах очень часто возникали также «полицейская тема». Анализ устных воспоминаний жителей белорусско-российского Пограничья позволяет утверждать, что образ полицейского не имеет однозначной характеристики. Люди припоминали разные пути и разные причины, которые приводили односельчан в полицию. В частности, в полиции можно было оказаться в результате немецкой мобилизации (забіралі сілай, каб у партизаны не пайшлі). Иные пошли добровольно, рассчитывая на материальные выгоды (бивала прыдуць, i што хочуць адбяруць). Но обычно оценка полиции также зависела от отношения последней к сельчанам:
— Як яны аднасілісь да народу, так i народ — да ix (B04M.Hryw.MZS/ NS.OS).
Безусловно, записанные устные воспоминания не дают оснований для широких обощений на тему отношения партизан к населению белорусских деревень. Но они однозначно опровергают тезис советской пропаганды о «всенародной поддержке» партизанского движения и заставляют усомниться в выводах уже современных историков, что «в абсолютном большинстве взаимоотношения партизан и местного населения были чрезвычайно благородными» [26] Каваленя А. А., Літвін A.M., Саракавік I. А" Касовіч А.В. Беларусь напярэдадні i ў гады Вялікай Айчыннай вайны: вучэбны дапаможнік / пад рэд. А.А. Кавалені. Мінск, 2005. С.67.
.
Собранные материалы подтверждают выводы немецкого историка Бернгарда Кьяри, который на основании изучения документов оккупационной администрации утверждал, что партизан часто боялись больше, чем немецких карательных акций. Тем более что партизаны действительно составляли «черные списки» так называемых предателей, которые подлежали расстрелу на месте [27] К'яры Б. Штодзённасць за лініяй фронту. Акупацыя, калабарацыя i супраціў у Беларусі (1941-1944). Мінск, 2005. С. 67,171.
.
Упомянутый немецкий историк сравнил белорусское общество во время войны с группой людей на плоту, которых уносит могучий поток. Плот несет через пороги и водопады, он постепенно разрушается. Каждый стремится выжить. Кто-то цепляется за бревна плота, другие бросаются в воду, чтобы доплыть до берега. Некоторые сталкивают своих товарищей по несчастью, чтобы облегчить плот. Отчаяние подталкивает к действиям тех, кто потерял всякую надежду... [28] Там жа. С. 22.
В картине, нарисованной немецким исследователем, отсутствуют люди, которые пытались бы спасать не только свою жизнь, но и жизнь иных людей на плоту... Конечно, этот образ можно проигнорировать, отмахнуться, что это немецкое понимание нашей истории, основанное исключительно на немецких документах. Но стоит задуматься, почему так часто жители «лесных деревень» подчеркивали, что свае былі худшыя, что ад сваіх найболыи i нацярпеліся. Даже сегодня многих жителей белорусских деревень (особенно мужчин), людей преклонного возраста, трудно разговорить на тему партизан. Они будто бы все еще боятся...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: