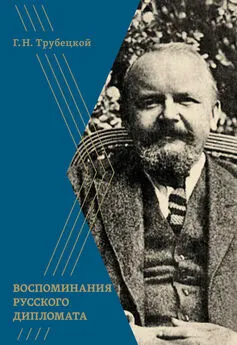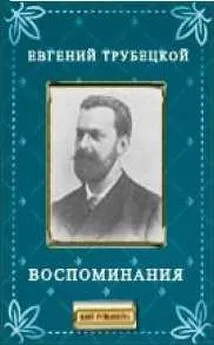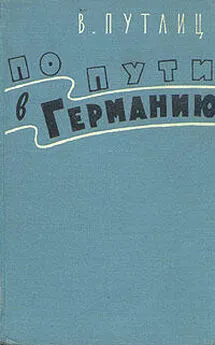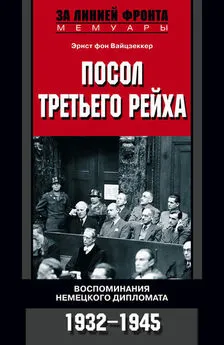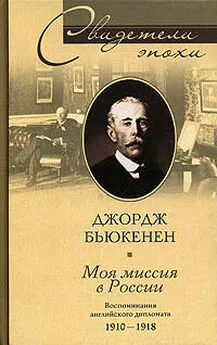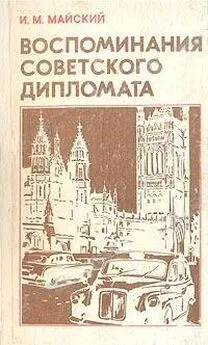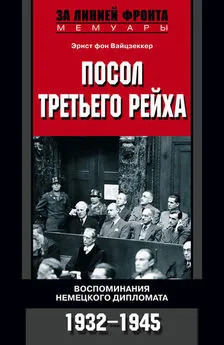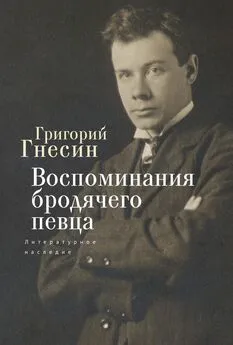Григорий Трубецкой - Воспоминания русского дипломата
- Название:Воспоминания русского дипломата
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Кучково поле Литагент
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907171-13-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Трубецкой - Воспоминания русского дипломата краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Воспоминания русского дипломата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Круг готов был сделать все, чего бы от него ни потребовали. Назаров несколько дней колебался, идти ли ему в атаманы. Случайно я пришел к нему как раз в самую решительную минуту. Его кабинет был в здании Областного управления. Рядом была большая зала, где происходили заседания Круга. Мне сообщили, что Назаров только что отказался баллотироваться в атаманы и что депутаты разбились по кругам., чтобы обсудить положение. Меня поймал старичок-секретарь атамана и настойчиво просил, чтобы я, с своей стороны, всячески воздействовал на Назарова, чтобы он не отказался от атаманства, ибо другого кандидата не было. Назаров при Каледине был походным атаманом. Это был прямой, честный казак, военный человек, что и требовалось. Я прошел к Назарову и стал его уговаривать не отказываться, ввиду серьезности положения и полного отсутствия других кандидатов. В это время кончился перерыв, Круг собрался вновь и Назарова позвали в залу. Я вышел за ним. Председатели округов, один за другим, сообщали постановления своих округов, сходившиеся в настоятельной просьбе Назарову принять атаманство. Назаров слушал их, нагнув голову и облокотившись на стол. Когда речи смолкли, наступила пауза. Видно было, как нелегко ему было принять решение. Наконец, он поднял голову и сказал: «Хорошо, я исполню свой долг, но и вы должны выполнить ваш долг. Без вашей помощи я не в силах что-нибудь сделать».
Содействие Круга было вполне обеспечено. Между прочим, Круг постановил суровые кары за уклонение от мобилизации, вплоть до расстрела, и вообще готов был на какие угодно решительные меры. Но увы… со всем этим было запоздано. Слова не запугивали, потому что у власти не было силы привести их в исполнение. Назаров принял на себя звание атамана, как тяжелый крест; он был такой же обреченный, как и Каледин, и так же по-солдатски относился к своему долгу, готовый стоять на посту до последней минуты.
В ближайшие же дни выяснилось, что казачья мобилизация провалилась, что все пришедшие разошлись. Совершенно неожиданно вдруг в Новочеркасск вошел конный казачий полк, вернувшийся с фронта. Казалось, что полк этот совершенно здоровый и готов идти, куда его пошлют. Все воспряли духом. Полк угощали, ему держали речи, потом его отправили на фронт, но казаки разошлись по домам, не обнаружив никакого желания сражаться.
При таких условиях Добровольческой армии не оставалось ничего другого, как вернуться к решению покинуть Дон. К тому же в это время совершенно неожиданно большевики заняли Батайск, в семи верстах от Ростова. Плохая разведка и малочисленность добровольческих отрядов создавали все время возможность подобных сюрпризов. Большевики начали обстреливать Ростов, и снаряды попадали в предместье города, а тем временем в самом Ростове было крайне неспокойно. Местная большевицкая чернь начала подымать голову. По ночам бывала постоянная тревога, и весь штаб становился под оружье. Все это повышало нервность. После неудачного столкновения генерала [С. Л.] Маркова с большевиками на мосту между Ростовом и Батайском, был дан приказ к отступлению.
Глава III. Поездка в Москву и в Сергиевское
Приходилось и нам принимать спешное решение. Выехать со всей семьей из Новочеркасска было немыслимо. Куда и как было ехать? Новочеркасск предполагалось отдать без боя. На него надвигались казаки-большевики, поэтому можно было надеяться, что он не будет подвергнут потоку и разграблению. Но нам, мужчинам, близко стоявшим к организации Добровольческой армии, нельзя было оставаться. Как ни жутко было расставаться с семьей и покидать ее на полную неизвестность, но выбирать не приходилось. Однако в обдумывании всевозможных планов и способов бегства уходило время. Кажется, в ночь на пятницу 9 февраля Добровольческая армия выступила из Ростова на Аксай {170}. Струве и Александра Николаевна хотели присоединиться к Добровольческой армии в Аксае и поехали в субботу вечером на вокзал. Но там был полный хаос, и утром они вернулись домой, проведя всю ночь на вокзале и ничего не добившись. Мне казалось, что мы, штатские люди, можем быть только обузой в Добровольческой армии при ее отступлении. В наших услугах она не могла нуждаться, и в бойцы мы не годились. Надо было просто ехать в Москву. Утром 11 февраля моя сестра В. Н. Лермонтова отправилась на базар и подрядилась с казаками, которые возвращались домой с пустыми санями-дровнями, продав муку, чтобы они нас повезли за Дон к себе на хутор; оттуда мы должны были тем или иным путем пробраться на железную дорогу и ехать в Москву. Муравьев решил переждать, чтобы выехать прямо по железной дороге в Москву, когда придут большевики и восстановится движение. Ехать решили П. Б. Струве, Н. С. Арсеньев и я с сыном Костей, которого я боялся оставить без себя, тем более что ему нужно было сдать экзамен в Москве за шестой класс, а в Новочеркасске ему было опасно оставаться: большевики всюду искали «кадет» и всех, кого подозревали в участии в войне, беспощадно истребляли.
Мы выехали, кажется, в 1 час дня из города, сначала уместившись все вчетвером на одних санях. Потом нагнали другие порожние сани, в которых правил двоюродный брат-односельчанин нашего казака, и разместились шире. В шестом часу вечера мы были на станции Багаевской, если не ошибаюсь, в 29 верстах [245]от Новочеркасска, по ту сторону Дона. Пока мы сидели в хате, давая лошадям отдохнуть, мы узнали, что большевиков ожидают с минуты на минуту, и, действительно, через час они уже заняли мост через Дон. Опоздай мы на один час, и нас бы не пропустили. Двинувшись в путь дальше, мы ночевали на каком-то постоялом дворе. На следующий день мы приближались к хутору Трехъярусному, где жили наши возницы. На этот хутор нельзя было попасть, не проехав через большую слободу Орловскую, населенную иногородними. Нас остановили на краю слободы, которую мы уже почти проехали, какие-то вооруженные люди и потребовали произвести обыск, не найдется ли на нас оружия. Тут мы узнали, что отражения событий уже воздействовали во всей этой местности. Всюду образовались военно-революционные комитеты и были посланы люди завязать отношения с большевиками. На этом решении сошлись как беспокойные элементы, местные большевики, так и люди, которые хотели скорее забежать перед новым порядком и дать новой власти доказательства своей политической благонадежности.
Обыск в Орловке был только предвестником нового настроения, с которым нам скоро пришлось близко познакомиться. Мы остановились в хате нашего возницы, богатого казака. У него были живы старики родители, которые вместе с ним жили. Были они старообрядцы-беспоповцы. В красном углу висели прекрасные старинные образа, которыми я долго любовался. Старик когда-то служил в гвардии. У него висели портреты всей царской семьи, и он и не думал их снимать. Всюду и впоследствии во время нашего путешествия по Донской области мы наталкивались на глубокую разницу между двумя поколениями: старики казаки – убежденные монархисты, религиозные и твердые люди. Второе поколение – сыновья от 25 до 35 лет – сельские буржуи, сложившиеся в обстановке безвременья, шкурники, оппортунисты. Старики негодовали на разруху, которая творилась, на то, что все это попускалось, на ослабление дисциплины и власти. Сыновья не были расположены ничем рисковать и только старались приглядеться вернее – где сила, чтобы суметь вовремя переметнуться на ее сторону. Настоящих большевиков было совсем мало, но большинство, как только почувствовало, что Новочеркасск будет сдан, спешили принять на себя защитный цвет большевизма. Наш возница оказался в неприятном положении. Он сам пригласил нас к себе, брался везти дальше, но все эти уговоры происходили, когда еще не выяснилась новая атмосфера. Теперь, когда он привез нас к себе, он сразу почувствовал тягость нашего пребывания. Как большинство зажиточных казаков, он промышлял спекуляцией на муке. Покупал по дешевой, сравнительно, цене муку на месте (в то время, рублей 7–8 на месте за пуд) и перепродавал в Новочеркасске за 24 рубля. Конечно, он возбуждал зависть тех односельчан, которые не имели достаточно денег для торгового оборота. – В самый день нашего приезда у его хаты стали собираться люди, громко ругавшие нашего хозяина за то, что он спекулянт и возит буржуев, которые спасаются из города. Вечером ввалился в хату весь хутор с только что образовавшимся военно-революционным комитетом. Нас подвергли самому мелочному обыску, снимали носки. Я вез 1000 франков золотом. Они были заложены в калошах, надетых на башмаки, в виде бумаги, которая кладется в носок слишком просторных калош. Мне пришлось отгибать калоши, не снимая их, и по счастью золото осталось незамеченным. Его находка могла бы оказаться для нас фатальной. У нас искали оружия и денег. Надеялись их много найти и очень разочаровались, найдя на каждом не более 1500 рублей. Для казаков это были такие пустяки, что они не тронули ни копейки. Я ехал с фальшивым документом, на имя конторщика, гражданина Терентьева. Документ был написан рукою Струве. Он остановил на себе внимание обыскивающих: почему написано – гражданин, а не сказано, как обычно в паспортах, – мещанин такой-то губернии и города. В спор вмешался бывший староста. Он сказал: «На что вы смотрите? Если б ученым людям нужен был паспорт, так они его как следует бы написали; а это, сейчас видно, наш брат, безграмотный писарь написал. Это, скорее, верный паспорт». Стали меня расспрашивать, чем я занимаюсь. Я стал врать, что хотел промышлять тем, чтобы на Дон возить ситец, а оттуда посылать в Москву муку. С трудом отделался от вопросов, почем теперь ситец в Москве. Крайне подозрительно отнеслись к Арсеньеву. Его почему-то приняли за жида. Тщетно мы уверяли, что он из самой православной семьи, что у него два дяди – священники. Наш возница вступился за него, сказав, что Арсеньев всю дорогу рассказывал ему жития святых и ангелов. – «Это они умеют», – заметил председатель комитета. Это был самый злостный из всех допрашивающих. Характерно было, что они прицепились к Арсеньеву, как жиду. В сущности, эта толпа могла одинаково и в еще большей степени проявить активность, если б торжествовало самое черносотенное начало. Это были подлинно «взбунтовавшиеся рабы». Самый критический момент наступил, когда, обыскивая бумаги у Арсеньева, председатель напал на одну, лежавшую отдельно, и, сказав: «А! эту, верно, забыли спрятать», передал одному из членов комитета, молчаливо участвовавшему в обыске. Тот развернул ее и стал читать про себя, и – о ужас! взглянув через его плечо, я увидел, что то был гимн Добровольческой армии, составленный самим Арсеньевым. Казалось, все пропало. Член комитета долго со вниманием и видимым интересом читал бумагу, потом сложил ее вчетверо и молча вернул Арсеньеву. Когда очередь дошла до П. Б. Струве, председатель прочел по складам его паспорт, в котором значилось, что Струве – профессор Политехнического института; прочитав слово «политехнический», председатель многозначительно перемигнулся с одним из членов и сказал: «Иван, Семеныч, это мы особо разберем».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: