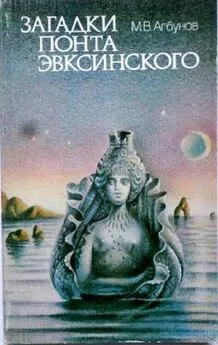Александр Бендин - Михаил Муравьев-Виленский. Усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи
- Название:Михаил Муравьев-Виленский. Усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный мир
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9909785-8-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Бендин - Михаил Муравьев-Виленский. Усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи краткое содержание
Особое внимание автор уделяет рассмотрению муравьевских реформ, вошедших в историю как политика «обрусения» региона. Рассматриваются также идейные мотивы, которыми руководствовался М. Н. Муравьев в своей деятельности по управлению Северо-Западным краем. Показаны перемены, которые произошли в общественном сознании населения Литвы, Белоруссии и российского общества под воздействием восстания 1863 г. и глубоких преобразований края на «русских началах», совершенных М. Н. Муравьевым.
Михаил Муравьев-Виленский. Усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
39
Каўка А. Беларускі вызваленчы рух: спроба агляду // Спадчына. — 1991. — № 5. — С. 6; Біч М. Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшы, Беларусі і Літве. — Энцыклапедыя Гісторыі Беларусі. — Т. 5. — Мінск. 1999. — С. 450; Жлоба С. П. Национальный вопрос в публикациях и выступлениях К. Калиновского. / Паўстанне 1863 года і яго гістарычнае значэнне. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі 10–11 кастрычніка 2003 года. — Брэст. 2004. — С. 18.
40
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. — Т. 5. — Мінск, 1999. — С. 450.
41
Гронский А. Д. Конструирование образа белорусского национального героя: В. К. Калиновский // Белоруссия и Украина: история и культура. Ежегодник 2005/2006. — М., 2008. — С. 253–265.
42
Свои показания, данные Виленской особой следственной комиссии, этот польский революционер подписывал как Викентий Калиновский или Викентий-Константин Калиновский. См: Восстание в Литве и Белоруссии. 1863–1864 гг. — М., 1965. — С. 68–79. Белорусские националисты, формируя символический ряд своей «национальной истории», нарекли дворянина «польского происхождения» Викентия-Константина простонародным «Кастусем», не только превратив его в ряженого белоруса, но и щедро наделив при этом свойствами мифологического персонажа. Возникший в результате мифотворчества революционно-демократический «Кастусь» понадобился коммунистическому руководству БССР для идейного обоснования начавшейся в 20-е годы XX в. политики белорусизации.
Создаваемая по идейным указаниям Компартии БССР профессиональная и «школьная» история «титульной нации» нуждалась в героической мифологии о народной борьбе с деспотическим российским самодержавием. Следовательно, остро понадобился героический персонаж, которого можно было бы преподнести в качестве выдающегося народного вождя, боровшегося за свободу угнетенных Россией белорусов. С этого времени и начинается история антироссийских мифов о «Кастусе Калиновском» и его «восстании», ставших одной из ведущих идейных опор белорусского национализма: советского, антисоветского и постсоветского.
43
Такого рода умозаключения уместно охарактеризовать как местную разновидность комплекса «лакея Смердякова», известного персонажа романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Как известно, Смердяков переживал из-за того, что в Отечественной войне 1812 г. победили русские, а не французы. Поэтому «умная» французская нация не смогла покорить «глупую» русскую нацию. А хорошо, если бы получилось наоборот. Уподобляясь этому колоритному литературному персонажу, белорусские националисты скорбят о поражении польского восстания, рассчитывая, очевидно, что в случае его победы «умная» польская нация обеспечила бы воображаемой ими «Беларусі», и «незалежнасць», и светлое европейское будущее.
44
Живучесть подобных мифологических представлений демонстрирует нам вышедший в 2016 году биографический словарь участников восстания 1863–1864 г. Вот что пишет автор этого словаря: «После поражения попытка восстановления независимого Польского государства произойдет только через полстолетия — в результате событий Первой мировой и польско-советских войн. Предыстория и период восстания явились началом развития белорусского национального (в современном понимании этих терминов) движения, которое также через половину столетия привело к созданию белорусской государственности (БНР, ССРБ, БССР)». См: Матвейчык Д. Удзельнiкi паўстання 1863–1864 гадоў. Бiяграфiчны слоўнiк. (паводле матэрыялаў Нацыянальнага гiстарычнага архiва Беларусi). — Мiнск, 2016. — С. 4.
Приведенная цитата является весьма показательной. Это характерный пример того, как историк, работающий в «национальным нарративе», неизбежно воспроизводит мифологический сюжет о «белорусском национальном движении», который призван убедить читателя в том, что в создании белорусской государственности главную роль сыграли внутренние факторы.
Мы видим, как автор совершенно произвольно устанавливает причинно-следственные связи между событиями восстания 1863 г. и появлением «белорусского национального движения». Однако, если автор действительно серьезно относится к «современному пониманию этих терминов», тогда, к вящему огорчению, ему придется узнать, что термин «движение», в силу отсутствия у белорусского национализма массовой социальной базы, к называемому им историческому явлению научно не применим. Более того, возникает вполне закономерный вопрос, как могло польское восстание 1863 г. стать источником белорусского политического «движения», которого в дореволюционной Белорусиии практически не существовало? Или, как это эфемерное «движение» вызвало к жизни столь разные формы белорусской государственности? Однако автор подобными элементарными вопросами предпочитает не задаваться.
В этой связи хотелось бы напомнить, что об отсутствии «белорусского национального движения» в дореволюционной России писал известный исследователь национализма Э. Хобсбаум, и не только он один. Главной причиной образования БНР и БССР стало не мифическое «национальное движение», а сугубо внешние факторы: свержение монархии, катастрофический распад Российского государства, кайзеровская оккупация и победа большевистского режима РСФСР в гражданской войне. Победившая внешняя сила (немецкая администрация, или российская партия большевиков) решала вопрос об установлении местной государственности в тех политических границах и формах, которые считала для себя приемлемыми. Немногочисленные «национальные» силы в таких условиях могли играть лишь второстепенную, сугубо декларативную роль. Однако носители современной национальной «свядомасці» не в состоянии трезво признать очевидное — первенствующее значение внешних факторов в создании белорусской государственности. Отсюда и насущная, идейно-психологическая потребность в производстве «нужной» им истории.
Известно, что мифологическое мышление современных националистов не терпит противоречий. Вот и автор словаря не усматривает явного противоречия между собранной им информацией об участниках восстания и декларируемым мифом о «национальном движении, вытекающем из „предыстории и периода восстания“». Ведь из текста словаря явно следует, что повстанцы относились к польско-католическому меньшинству населения Северо-Западного края. Указанные в словаре представители этого меньшинства с оружием в руках боролись за восстановление Польши в границах 1772 г. Следовательно, за поглощение Польшей территорий, населенных предками жителей современной Белоруссии. Тем не менее, выявленные данные о польских повстанцах преподносятся автором как фактическое свидетельство в пользу исторической реальности «белорусского национального движения».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)