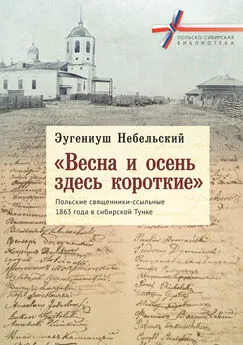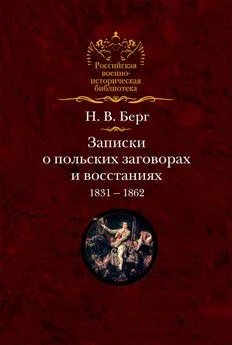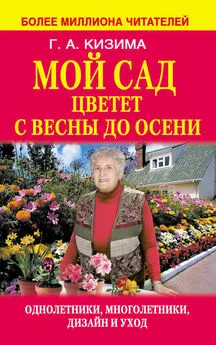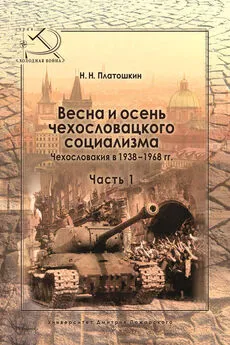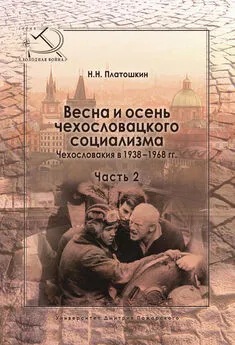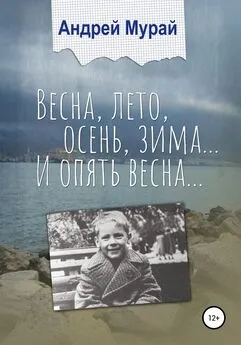Эугениуш Небельский - «Весна и осень здесь короткие». Польские священники-ссыльные 1863 года в сибирской Тунке
- Название:«Весна и осень здесь короткие». Польские священники-ссыльные 1863 года в сибирской Тунке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-278-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эугениуш Небельский - «Весна и осень здесь короткие». Польские священники-ссыльные 1863 года в сибирской Тунке краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
«Весна и осень здесь короткие». Польские священники-ссыльные 1863 года в сибирской Тунке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На общие молитвы и службы тункинские ссыльные собирались редко, чаще всего это случалось в дни некоторых церковных праздников, но главным образом – похорон. Объективно говоря, и не было никакой возможности разместить в одном месте полторы сотни человек, поскольку священники не располагали достаточно просторным помещением. Эти трудности каким-то образом преодолевались, когда раз в год в Тунку прибывал – официально, с разрешения властей – иркутский приходской священник ксендз Швермицкий или один из его викариев – Сильвестер Кимбар, Тыбурций Павловский или Отто Чудовский. Тогда в одном из домов устраивались часовня и алтарь. На богослужение собиралось столько народу, что многие вынуждены были стоять на улице. Эта пастырская практика иркутских священников продолжалась иной раз целую неделю. Затем алтарь официально – под надзором капитана – разбирали, и Плотников отчитывался перед иркутскими властями о визите ксендза-миссионера.
Столь массовых собраний не случалось даже в главные церковные праздники: на Рождество и на Пасху. Главным препятствием было то, что жители Царства Польского и так называемые «литовцы» относились к разным церковным традициям, связанным с использованием григорианского или же юлианского календаря. На протяжении всего пребывания в Тунке священники не сумели прийти в этом вопросе к взаимопониманию. Вацлав Новаковский писал: «отсюда болезненный разлом в лоне единой ссыльной семьи в вопросах значимых, особенно для духовных лиц». Рождество (наиболее трогательный и сентиментальный для всех праздник) и другие важные церковные праздники справляли обычно с ближайшими друзьями и товарищами. Порой удавалось накрыть более богатый стол, появлялись блюда, не встречавшиеся в повседневной жизни ссыльных. «Особенно обилен бывал пасхальный стол у зажиточных священников, напоминая о прежних, лучших временах».
В своих дневниках священники подчеркивают, что значительная часть ссыльных жила богобоязненно, примерно и в согласии. «Много среди нас было людей разумных, набожных и образованных, много симпатичных и веселых, обладавших открытым нравом, с ними бывало весьма приятно и полезно проводить время», – писал Наркевич. Ксендз Матрась перечислил пятьдесят фамилий священников, особенно славившихся своим религиозным рвением и непорочной жизнью: «они регулярно читали требник, ежедневно совершали службу, часто исповедовались и четко соблюдали все посты». Новаковский вспоминает те, кто был «исключительно набожен», посвятил себя умерщвлению плоти, служа образцом для остальных: это Паулин Доманьский (бернардинец из Радома), Бартломей Грыкетыс, Корнель Качмарский, Францишек Каминьский, Антоний Кавецкий, Винцентий Коханьский, Базилий Ляссота, Анджей Пиотрович и Онуфрий Сырвид. Ксендз Бартломей Грыкетыс, профессор семинарии в Сейнах, вел жизнь подвижника, ксендз Ян Наркевич из Кобрыня вырезал, например, оригинальные деревянные кресты и алтарные подсвечники, которые стояли почти у всех священников. Его прозвали «Иоанном Креста». Молодой Францишек Каминьский, профессор варшавской семинарии, преданный своему призванию, «был всем примером». Онуфрий Сырвид и Винцентий Коханьский, – писал Новаковский, – «то два ангела-хранителя в нашем изгнании. Их молитвами на нас нисходила Божья благодать». Доминиканцы, вышеупомянутые Коханьский, Игнаций Климович и Ангел Сосновский, поселившись вместе, сообща молились, «поддерживая монашеский образ жизни»; другие создавали молитвенные группы.
Случались однако и «выродки». «Наконец я вынужден с болью в сердце признать правду», – писал ксендз Матрась, констатируя, что таковые жили обособленно, не участвовали в жизни общины, не совершали службу и даже пренебрегали ею по праздникам, перестали читать требник, вообще редко совершали таинства. Некоторые по прошествии лет позабыли не только латынь, необходимую для совершения службы, но и коверкали родной язык, обильно вставляя русские слова.
Эту темную сторону жизни ссыльных некоторые другие священники старались не акцентировать и в дневниковых записях чрезмерно идеализировали свою среду: «Каждый день более сотни служб совершалось в Тунке в нескольких десятках часовен», – вспоминал Новаковский, а использовавший эти записи Жискар сделал лишь одно важное уточнение: «почти все священники ежедневно совершали службу, за исключением, быть может, нескольких, которые оторвались от сообщества или сдались. Таких было немного. Было также несколько товарищей, которые из непокорности служили не каждый день, однако ежедневно о том сообщали». В текстах обоих авторов можно встретить немало подобных пассажей.
Особенно критически против идеализации тункинских священников выступил позже ксендз Миколай Куляшиньский, человек необычайно чувствительный к фальши, искатель правды, пускай даже та оказывалась болезненной для него самого. Он, в свою очередь, с излишней категоричностью оспаривал историческую ценность брошюры коллеги Новаковского о Тунке, изданной в 1875 году в Познани: «Уважаемый автор указанной брошюры собрал все существующие под солнцем цветы нравственности и сплетенным из них венком увенчал тункинских ссыльных – согласно собственной точке зрения, субъективно преувеличивая одни факты и опуская другие, хоть и хорошо ему известные. На самом деле можно лишь мечтать о том, чтобы мы были достойны подобного описания – кабы оригинал соответствовал краскам, которыми написан сей портрет, мы были бы почти святыми, стояли вне истории, которая одна только вправе судить о людях. Но рассказ его сродни панегирику, так что историк из него почерпнуть пользы может немного».
Сам Куляшиньский, говоря о недостатках священников и пытаясь их понять и рационально объяснить, указывает в качестве главной причины условия ссылки: «Нужно иметь железную волю, чтобы противостоять всем этим бедам, чтобы не дать сомнениям и злобе закрасться в сердце» (духовные лица не были тут исключением). В другом фрагменте своих воспоминаний он замечает, что сосредоточение священников в Тунке имело и свои положительные стороны, поскольку поддерживало слабых духом: «Сан священника свят: священнослужитель с факелом веры шагает через предрассудки мира; но сан принимают люди, которых помазание не лишило пылкости чувств, в противном случае они были бы святыми, Сибирь же – пространство болотистое, топкое, поглощающее и поражающее натуры неустойчивые, тех, кто тонет в пучине безверия, а тем самым гибели. Поэтому наше многочисленное сообщество удерживало тех, кто катился по наклонной плоскости, ибо всякому громко напоминало о том, что придется держать ответ о своей жизни перед Богом и отчизной». Наконец, – заверял он патетически, – большинство руководствовалось принципом: «Bonum et jucundum est pro patria et Ecclesia pati» («Благо и наслаждение – страдать за родину и Церковь»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: