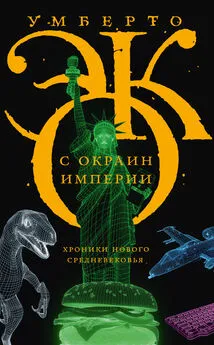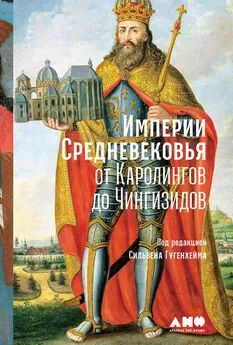Сильвен Гугенхейм - Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов
- Название:Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-0013-9437-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сильвен Гугенхейм - Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов краткое содержание
Цель настоящего сборника — охватить единым взглядом схожие между собой политические образования в рамках протяженного хронологического отрезка в планетарном масштабе. Структура изложения материала обусловлена предложенным Гугенхеймом делением империй на три группы: империи-универсумы (такие как империя Каролингов, Византия, Монгольская и Китайская империи и т. д.), империи, изолированные в определенном географическом пространстве (Болгарская, Сербская, Японская, Латинская империя Константинополя, солнечные империи Латинской Америки), а также империи с рассредоточенными территориями (Германская империя Оттонов, Нормандская империя, империя Плантагенетов, талассократические империи Венеции и Шривиджаи).
Статьи авторов, среди которых как именитые ученые, так и яркие молодые исследователи, отличаются оригинальностью подходов, насыщены фактами и выводами, представляющими несомненный интерес не только для специалистов, но и для самого широкого круга любителей истории.
Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Чиновники имели различное происхождение, хотя все же большинство из них были аристократами. Однако Ральф Тернер установил, что в административном аппарате и в личном окружении правителей присутствовали также интеллектуалы и новые люди, «поднятые из пыли» [363] Ralph V. Turner, Men Raised from the Dust. Administrative Service and Upward Mobility in Angevin England, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1988.
. При подборе чиновников важную роль играла компетентность, однако Плантагенеты также покровительствовали сеньорам, которых они считали достаточно надежными, чтобы те могли стать проводниками их власти. Главным образом они опирались на представителей родов шателенов (владельцев замков), которые хорошо знали местность и могли использовать дружеские и соседские связи для проведения королевской политики. Стоит отметить два важных исключения из общей модели: английские шерифы редко назначались из местной знати, чтобы не провоцировать рост коррупции, а в уязвимые области (марки — традиционно мятежные земли) отправлялись те, кто пользовался личным доверием Плантагенетов, то есть англо-нормандцы, которые должны были создать противовес сеньорам, с давних пор считавшим себя наследственными обладателями государственных должностей.
Тщательно отобранные чиновники также находились под строгим контролем, в особенности в центральных регионах — Англии и Нормандии. В этих областях бальи были обязаны дважды в год отчитываться перед Палатой шахматной доски в Кане или Вестминстере и предъявлять доказательства того, что приказы Королевской канцелярии исправно исполнялись. Если в работе обнаруживались нарушения, чиновников судили прямо на месте, а отсутствующим выносили приговор заочно. В ходе следствия обвиняемые могли обратиться к свидетелям, которые дали бы показания, подтверждающие, что чиновники подчинялись приказам властей и все их траты были обоснованными (процедура per visum ). В остальных регионах империи контроль над чиновниками осуществлялся на местах с помощью странствующих судей и регулярных проверок.
Такой порядок обеспечивал эффективность административной политики и способствовал усилению власти Плантагенетов на локальном уровне. Генрих II также осознавал необходимость поддержки со стороны своих вассалов. Однако не всегда было легко заручиться их преданностью и верностью.
[364] Maïté Billoré, De gré ou de force. L’aristocratie normande et ses ducs (1150–1259), Rennes, PUR, 2014.
Вопреки феодальному праву, отношения знати со своим сеньором не всегда были безоблачными. Так, например, в Гаскони графы Бигоррский и Арманьякский, виконты Дакса, Байонны и Ломани периодически поднимали восстания, вынуждая Плантагенетов к военным вмешательствам. Даже в самых благонадежных и спокойных провинциях, таких как Нормандия, власть порой сталкивалась с робкими попытками восстановить автономию, а в приграничных районах нужно было быть готовым к предательству со стороны местных сеньоров, которые нередко вели двойную игру, преследуя свои наследственные интересы. По всей империи строптивая знать выжидала первого удобного момента, чтобы воспользоваться неустойчивостью власти. Слабым местом Плантагенетов были династические усобицы, которые разжигались младшими членами рода ( juvenes ), желавшими захватить бразды правления. Большая часть знати поддержала восстания Генриха Молодого и Ричарда, например во время тяжелейшего кризиса 1173–1174 гг. Петр Блуаский в «Диалоге между аббатом Бонваля и Генрихом II» ( Dialogue entre l’abbé de Bonneval et le roi Henri II ) вкладывает в уста короля горькое признание: «Я вырастил и воспитал своих сыновей, но они отвергли меня. Мои друзья и близкие восстали против меня. Те, кто служил мне и был вхож в мой дом, проявили жестокую враждебность и совершили кощунственное предательство». К «активному» неповиновению добавлялись такие «пассивные» формы, как нежелание сотрудничать с администрацией или отказ от передачи Генриху II опеки над несовершеннолетними сеньорами (случай Дениз, наследницы Деоля и Шатору, 1177, и виконта Адемара V Лиможского).
Чтобы объяснить действия Генриха II, нужно понимать, что его решительная политика с первых дней правления могла вызывать недовольство. Король отслеживал малейшие проявления неповиновения со стороны своих вассалов и организовывал карательные походы, которые оканчивались конфискацией ленных владений, сдачей или уничтожением замков, заключением «предателей» в темницу или ссылкой. Вильгельм Омальский, отказавшийся сдать замок Скарборо, Роджер Герефордский, не уступивший Глостер и Герефорд, и Гуго Мортимерский, не передавший Клиобери, Вигмор и Бридгнорт в руки короля, вызвали гнев Генриха II. Еще тяжелее было принять монополию Анжуйского дома на насилие, которая шла вразрез с устоями профессиональных рыцарей, привыкшими идти в бой по собственному желанию, исходя из личных интересов. Баронов также раздражало использование наемников фламандского, брабантского и валлийского происхождения. Помимо этого, знать болезненно реагировала на административные реформы, которые сопровождались усилением налогового бремени и конкуренцией в судебной сфере. Деятельность королевского правосудия, по сути, состояла в рассмотрении апелляций на решения сеньориальных судов. Также королевские суды брали на себя вынесение приговоров по некоторым особым делам («королевским», находившимся в ведении государственного правосудия, а не сеньориального, и не «судов меча», plaids de l’épée, то есть требовавших разбирательства в высших судебных инстанциях) и устанавливали следственную процедуру, лишая таким образом знать важного источника дохода. Недовольство аристократов вызывали также разнообразные формы «нерепрессивного» принуждения, которыми пользовалась анжуйская власть: право контроля за браками представителей ключевых родов, а также за матримониальными планами в отношении юных сирот, отданных под опеку [365] Одна из «переписей» содержит список наследников и наследниц на выданье: Rotuli de dominabus et pueris et puellis de XII comitatibus (1185), éd. J. H. Round, Londres, Pipe Roll Society, 1913.
, опекунство над могущественными вдовами, чье приданое представляло интерес для потенциальных женихов, увеличение рельефа [366] «Droit de relief» — побор, взимавшийся сеньором с вассала при наследовании фьефа. — Прим. пер.
, размеры которого, согласно казначейским свиткам (pipe rolls), достигали баснословных сумм (особенно в правление Иоанна Безземельного) и ввергали представителей знатных родов в долговую зависимость. Через несколько лет роптание поднялось по всему королевству.
Чтобы сгладить последствия своей деспотичной политики, Генрих II активно укреплял личные связи с вассалами. Он понимал, что управление государством означает не только умение подчинять и наказывать, но также принимать в свои ряды без какого-либо принуждения. Правители были склонны проявлять добрую волю и совершать символические действия, которые должны были «вселять в сердца людей мир и преданность» [367] Raoul Fitz Nigel, Dialogus de Scaccario. The Course of the Exchequer, op. cit., p. 75.
.
Интервал:
Закладка:
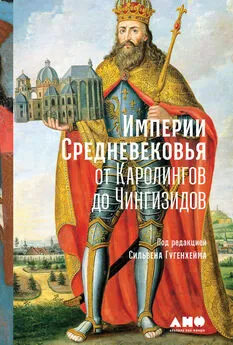
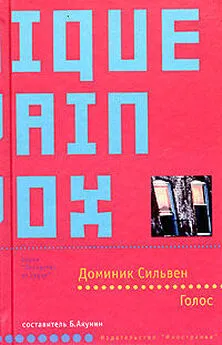
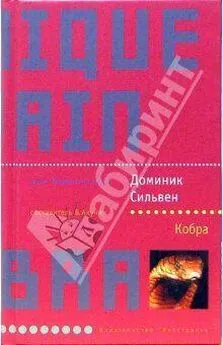
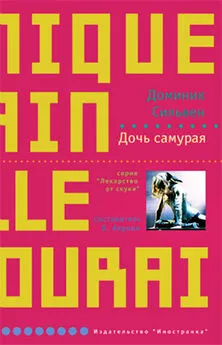
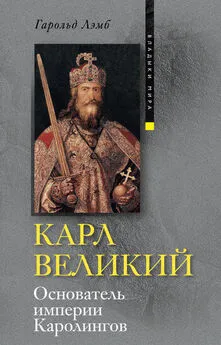
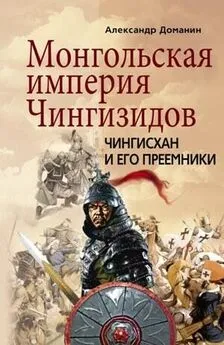
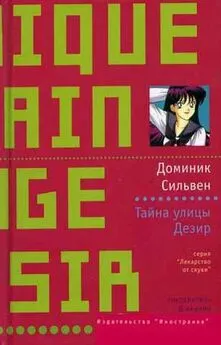
![Филипп Доллингер - Ганзейский союз [Торговая империя Средневековья от Лондона и Брюгге до Пскова и Новгорода]](/books/1071080/filipp-dollinger-ganzejskij-soyuz-torgovaya-imperiya.webp)
![Умберто Эко - С окраин империи. Хроники нового средневековья [litres]](/books/1150337/umberto-eko-s-okrain-imperii-hroniki-novogo-sredn.webp)