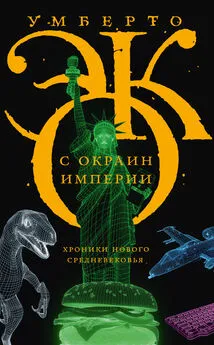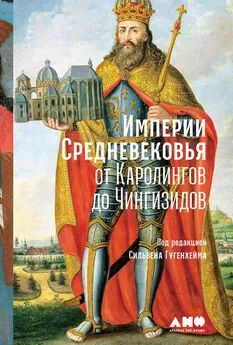Сильвен Гугенхейм - Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов
- Название:Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-0013-9437-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сильвен Гугенхейм - Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов краткое содержание
Цель настоящего сборника — охватить единым взглядом схожие между собой политические образования в рамках протяженного хронологического отрезка в планетарном масштабе. Структура изложения материала обусловлена предложенным Гугенхеймом делением империй на три группы: империи-универсумы (такие как империя Каролингов, Византия, Монгольская и Китайская империи и т. д.), империи, изолированные в определенном географическом пространстве (Болгарская, Сербская, Японская, Латинская империя Константинополя, солнечные империи Латинской Америки), а также империи с рассредоточенными территориями (Германская империя Оттонов, Нормандская империя, империя Плантагенетов, талассократические империи Венеции и Шривиджаи).
Статьи авторов, среди которых как именитые ученые, так и яркие молодые исследователи, отличаются оригинальностью подходов, насыщены фактами и выводами, представляющими несомненный интерес не только для специалистов, но и для самого широкого круга любителей истории.
Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Генрих II щедро вознаграждал верных вассалов, даруя им земли, замки, доходы и титулы. Но и к предателям он мог проявить великодушие. В «Диалоге о Палате шахматной доски» это качество описывается как политическая стратегия: «Враги были прощены, и небывалая милость была дарована зачинщикам столь серьезного преступления, так что лишь немногие из них понесли имущественные потери и ни один не лишился своего положения и не пострадал физически» [368] Ibid., pp. 76–77.
. Милосердие использовалось в прагматических целях: оно должно было побуждать знать возвращаться на путь верности своему суверену.
Создавались инструменты политической коммуникации, которые должны были повысить уровень лояльности подданных, а также изменить восприятие личности и действий монарха и придать законные основания правлению Анжуйской династии. Большинство произведений, созданных во второй половине XII в. (истории, хроники, художественные произведения, нравоучительные и политические трактаты), по сути представляли собой государственную пропаганду. Плантагенеты не всегда становились непосредственными заказчиками этих сочинений, однако бесспорно являлись вдохновителями литературного творчества. Некоторые произведения предназначались для знати и должны были воздействовать на их поведение: нормандский «Роман о Роллоне» и «бретонский цикл» рассказывали о безусловной верности по отношению к правителю, а также о дисциплинированности и добродетельности [369] Wace, Roman de Rou, éd. A. J. Holden, Paris, Picard, 1970. Первым произведением «бретонского цикла» («Matière de Bretagne») принято считать «Историю королей Британии» Гальфрида Монмутского: Geoffroy de Monmouth, Historia regum Britaniae, éd. N. Wright, Cambridge, D. S. Brewer, 1991.
. Другие произведения больше сосредоточивались на изображении правителей и их рода. Так, исторические повествования прославляли анжуйских и нормандских предков Плантагенетов, например вымышленного легендарного короля Артура (альтер эго Карла Великого), а также рассказывали об их завоеваниях на античный манер, подчеркивая воинскую доблесть, в особенности Ричарда I. Юридические трактаты, такие как «Диалог о Палате шахматной доски» или «Трактат о законах и обычаях королевства Английского» ( Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Anglie qui Glanvilla vocatur ), повествуют о законодательной деятельности Генриха II, которого они сравнивают с величайшими правителями прошлого. Одни эпистолярные сборники, например письма Петра Блуаского, который получил образование в области права и богословия в Париже и был учеником теолога и политического философа Иоанна Солсберийского, превозносили правление Генриха II, в то время как другие, в частности послания лондонского епископа Жильбера Фолио, поддерживали короля в споре с архиепископом Кентерберийским Томасом Бекетом (был убит четырьмя англо-нормандскими рыцарями, считавшими себя выразителями королевской воли).
«Идеология Плантагенетов» [370] Amaury Chauou, L’Idéologie plantagenêt: royauté arthurienne et monarchie politique dans l’espace plantagenêt, XII e —XIII e siècles, Rennes, PUR, 2001.
, распространившаяся по всем землям империи, была нацелена прежде всего на знать. Однако смысл этой политики заключался не только в укреплении лояльности и поиске опоры среди аристократов, но также в создании единого культурного сообщества внутри империи.
Во второй половине XII в. империя Плантагенетов стала феодальным государством, чье культурное влияние и авторитет сложно недооценить. Уважая местные институты, правители из Анжуйского дома разработали «арсенал методов утверждения господства и дальнейшего существования собственной власти» [371] Jacques Boussard, Le Gouvernement d’Henri II Plantagenêt, Paris, Librairie d’Argences, 1961, p. 546.
: эффективный административный аппарат, способный работать в отсутствие суверена, результативная территориализация власти и политическая коммуникация федеративного характера. Природа этого политического образования основывалась на личных связях правителя со своими подданными. Вассалы и чиновники не тратили усилий на укрепление абстрактного государственного образования — верой и правдой они служили конкретному человеку, не забывая о собственных интересах. В подобных личных связях заключалась сила империи, но в то же время крылась причина ее неустойчивости, что хорошо видно на примере царствования Иоанна Безземельного, отвергнутого подданными и не способного сохранить целостность своего наследства.
AURELL, Martin, L’Empire des Plantagenêt, 1154–1224, Paris, Perrin, 2003.
BATES, David, The Normans and Empire, Oxford, Oxford University Press, 2013.
GILLINGHAM, John, The Angevin Empire, Londres, Arnold, 2001 [1984].
HOLLISTER, C. Warren, et KEEFE, Thomas K., «Making the Angevin Empire», Journal of British Studies, vol. 12, no. 2, 1973, pp. 1–25.
HOLT, James Clarke, Colonial England, 1066–1215, Londres, Hambledon Press, 1997.
LE PATOUREL, John, Feudal Empire, Norman and Plantagenet, Londres, Hambledon Press, 1984.
MORTIMER, Richard, Angevin England, 1154–1258, Oxford, Blackwell, 1994.
NORGATE, Kate, England under the Angevin Kings, Londres, Macmillan, 1887.
TURNER, Ralph V., «The Problem of Survival for the Angevin Empire: Henri II’s and His Sons’ Vision versus Late Twelfth Century Realities», The American Historical Review, 100, février 1995, pp. 78–96.
15. Траектории империи в Адриатике: Венеция в Средние века (IX–XV вв.)
(Бернар Думерк)
Говоря о «Венецианской империи», историки придают этому словосочетанию самые разные оттенки. Недостаточно констатировать, что территориальные завоевания приобрели имперский размах, чтобы объяснить политическую философию и практическую деятельность в долгосрочной перспективе [372] Monique O’Connell et Benjamin Arbel, dans Gherardo Ortali, Oliver J. Schmitt et Ermanno Orlando (éd.), Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità, Venise, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 2015, p. 56.
. Венеция начала экспансионистскую политику, двинувшись в сторону Истрии в начале XI в. Тем не менее сменявшие друг друга правительства никогда ясно не выражали приверженность имперской идее, несмотря на отчетливое присутствие Римской империи в коллективной памяти. Французский путешественник Шарль Ириарте, тонкий знаток культуры и духа Венеции, в конце XIX в. отметил одну примечательную особенность: «Повсюду [в Адриатике] люди говорят на том же диалекте, что и в Венецианской лагуне. Например, в Себенико [373] Здесь и далее вслед за автором мы будем использовать итальянские названия городов и островов на Адриатическом побережье и в Балканском регионе. Далее мы приводим список современных названий. Албания: Валона — Влёра, Дривасто — Дришт, Дураццо — Дуррес, Кроя — Круя, Алессио — Лежа, Скутари — Шкодер; Греция: Лепанто — Навпакт, Наварино — Пилос, Науплио — Нафплион, Стампалия — Астипалея, Чериго — Китира; Хорватия: Арбе — Раб, Брацца — Брач, Зара — Задар, Курцола — Корчула, Лезина — Хвар, Нона — Нин, Оссеро — Осор, Паго — Паг, Рагуза — Дубровник, Себенико — Шибенек, Спалато — Сплит, Трау — Трогир; Черногория: Антибари — Бар, Дульчиньо — Улцинь, Каттаро — Котор. — Прим. пер.
все напоминает о Венеции, особенно манера речи, и так продолжается вплоть до Боккали [Которская бухта]. В Рагузе говорят на наречии под названием lingua raugia [374] Рагузский язык. — Прим. пер.
, романском языке со особыми славянскими вкраплениями» [375] Charles Yriarte, La Dalmatie, récit d’un voyage publié dans la revue Le Tour du monde, le journal des voyages, repris dans Les Bords de l’Adriatique et le Monténégro, Paris, Hachette, 1878.
.
Интервал:
Закладка:
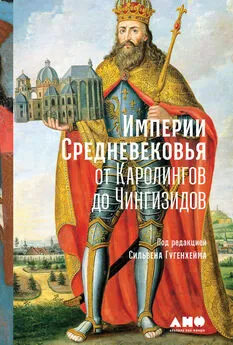
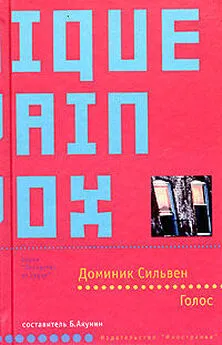
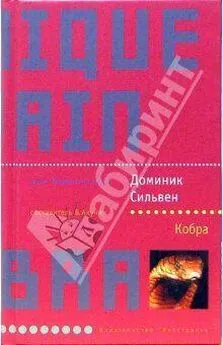
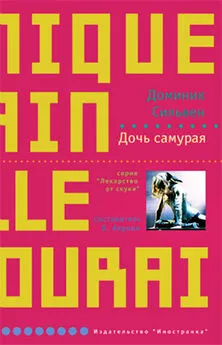
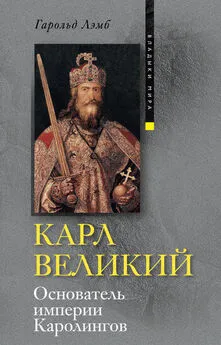
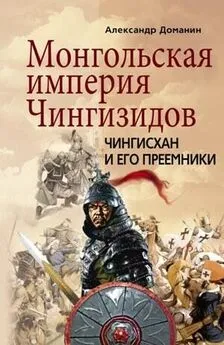
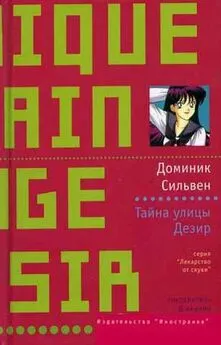
![Филипп Доллингер - Ганзейский союз [Торговая империя Средневековья от Лондона и Брюгге до Пскова и Новгорода]](/books/1071080/filipp-dollinger-ganzejskij-soyuz-torgovaya-imperiya.webp)
![Умберто Эко - С окраин империи. Хроники нового средневековья [litres]](/books/1150337/umberto-eko-s-okrain-imperii-hroniki-novogo-sredn.webp)