Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают
- Название:Мысы Ледовитого напоминают
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Товарищество научных изданий КМК
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9500591-3-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Чайковский - Мысы Ледовитого напоминают краткое содержание
Для всех, кому интересны Арктика, судьбы необычных людей и страны.
Во втором издании исправлен ряд ошибок, в том числе существенных, добавлены снимки, карты и литература, дано много разъяснений, учтены замечания специалистов.
Мысы Ледовитого напоминают - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

Памятная доска Матвею Гагарину
Тобольск, 2012 год
Его обвиняли в огромном казнокрадстве [56] Как видно из текста приговора Гагарину (СИРИО, т. 11, с. 421–422), доказательная база мало занимала царя, а «суд» и вовсе лишь узаконил своим приговором конфискацию огромных богатств князя. Дипломаты сообщали, что, «как уверяют», лишь меньшая часть его богатств достигала трёх млн руб. [Бродель, с 457]. В деле этого нет, в таких размерах воровал один только Меншиков, наказаний всегда избегавший.
, но этим занимались тогда едва ли не все сановники, так что казнь этим обвинением, вопреки учебникам, не объясняется. Важнее, что из его денег было начато финансирование Низового (Астраханского) похода (СИРИО, т. 11, с. 474), который позже вылился в знаменитый Персидский поход.
И Гагарину ещё повезло. Так, обер-фискал Алексей Нестеров, на чьих обвинениях строилось дело Гагарина, через 3 года тоже был, после чудовищных (даже по тем временам) пыток, колесован. (Как любил Пётр, колесо останавливали для «допроса» казнимого, уже неспособного говорить.) Был обезглавлен и фискал Савва Попцов, который под пыткой донёс на Нестерова; затем Скорняков-Писарев, ведший уголовные дела фискалов, был приговорён к смерти, замененной у эшафота на службу рядовым, с конфискацией имений. Та же участь (помилование у эшафота и конфискация имений) ждала и Петра Шафирова, вице-канцлера, посмевшего обвинить Писарева в лихоимстве. Все они, кроме Попцова, были ближайшими сподвижниками Петра, причём Шафиров в 1711 году спас царя от турецкого плена, а Нестеров был одним из главных советников царя. (Именно он убедил царя перейти от явно негодных подворных переписей к подушным, чем заложил основу российской демографии.)
Этот страшный ряд изумляет, но он по-своему логичен. Стареющий диктатор часто устраняет слишком ярких деятелей, боясь заговора, а Пётр из-за болезни считал себя стариком, о чём не раз писал. Но была ещё и особая нужда: в конце жизни он не мог, несмотря на самые жестокие меры, обеспечить казну сбором налогов и стал пополнять её разорением богатых. Целью пыток при этом было выяснить, сколько и где спрятано ценностей. Обычно это легко удавалось, но вот Нестерову назвать было нечего, отчего, полагаю, и пытали его чудовищно. Так Пётр добывал миллионы рублей и терял соратников. Был ли среди казнённых его возможный преемник, никто сказать не может, зато всем известно, что перед смертью царь преемника себе назвать не смог.
Неужели вопрос не волновал его? Волновал, и даже очень. Едва в 1721 году старшей дочке Петра, любимой Аннушке, исполнилось 13 лет, Пётр объявил её совершеннолетней и стал подыскивать ей мужа. Жених быстро сыскался (герцог голштинский Карл Фридрих) и приехал в Россию, но дело не двигалось целых три года. Мешала Екатерина, царица, желавшая стать наследницей сама [Анисимов, 1998, с. 39], и весной 1724 года ей это удалось: Пётр составил завещание, делавшее её наследницей, обойдя тем самым своего внука Петра Алексеевича, сына замученного царевича. Брак дочери потерял актуальность, но через полгода это шаткое благополучие рухнуло.
Последние годы правления Петра у историков особо искажены. Историки умалчивают как о нарастании пыток и казней (см. Прилож. 3),так и о провале его налоговой политики. Писали когда-то (опуская прожитые после процесса Алексея шесть с лишним лет), будто он умер от отцовских мук. Много писали и о подвиге, якобы приведшем его к мучительной смерти. Даже Валишевский верил этому дворцовому вымыслу и наивно уверял, что император бросился в ледяную воду, дабы спасти севшую на мель лодку с солдатами: [Валишевский, с. 585]
«Судно было спасено, но сам он вернулся в столицу в жесточайшей лихорадке и слёг, чтобы больше уже не вставать».
Не странно ли? Пётр всю жизнь был к солдатским жизням, мягко говоря, равнодушен. Не очень веря здесь Валишевскому, читаю без удивления [Хьюз, с. 392, 395]:
«Штелин [57] Якоб Штелин, гравёр и искусствовед, в России через 10 лет после смерти Петра I. Собирал «подлинные анекдоты о Петре Великом». Признание данного анекдота историческим фактом (редкость даже для казенной истории) есть следствие обратной эвристики (о ней см. ниже, п. 5). Ею в данном случае послужило господство идеи о величии Петра. Величие требует гуманности, и свидетельства пришлось выдумывать.
оказался единственным из свидетелей, подробно описавшим поступок Царя. Ни дворцовые журналы, ни другие летописцы» не коснулись столь выгодного для них случая, зато «вне зависимости от того, спас ли Петр на самом деле хоть одного солдата, он вернулся в Санкт-Петербург в достаточно добром здравии, чтобы 5 ноября получить „необычайное удовольствие“ на свадьбе немецкого пекаря». Затем, на обручении царевны Анны Петровны, «22 ноября 1724 года… сидели в палатах в зале до 12-го часу при Их Величествах и Высочествах все господа».
Жестокая болезнь свалила Петра много позже, после водосвятия 6 января на Неве, где он, командуя Преображенским полком, видимо, застудил на пронизывающем ветру с залива больные почки. Слёг он 17 января. Но, согласно Евгению Анисимову, причиной обострения недуга был шок не холодовой, а династический: император понял, что даже жена ему не наследник.
Царю донесли, что камергер императрицы Виллим Моне берёт огромные взятки, улаживая преступные дела через императрицу. Поняв, что исполняет просьбы не самой жены, а очередного взяточника, Пётр впал в необычную даже для него ярость. Моне был 8 ноября арестован, пытан самим Петром и уже 16 ноября обезглавлен. Лёгкость казни разительно не соответствовала силе гнева, так что главным виновником, на мой взгляд, для Петра был не Моне.
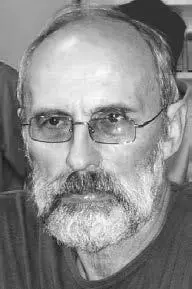
Евгений Викторович Анисимов
Молва, естественно, объявила причиной гнева любовную связь Монса с Екатериной, но ни Хьюз, ни Анисимов не видят тому доводов. Если Хьюз не поверила чисто по-женски, то Анисимов, прежде веривший в любовную измену [Анисимов, 1998, с. 36], теперь допустил совсем иное:
«Намереваясь передать престол жене, царь, неожиданно столкнувшись с делом Монса, может быть, впервые подумал о том, не окажется ли в конечном счёте судьба великого наследия в руках какого-нибудь ловкого прощелыги вроде Виллима Монса» [Анисимов, 2009а, с. 430].
Добавлю: Пётр сам был виноват, окружив себя уголовниками и погубив как сподвижников, так и династию. Вернёмся к этому в п. 8.
Радовались ли бедам Писарева его бывшие питомцы-жертвы по Академии, или нет, не знаю. Однако вспомнилось мне, как мой отчим, историк географии Яков Михайлович Свет, увидав меня, подростка, за разглядыванием букета портретов в первой Большой Советской энциклопедии (то были члены ленинского ЦК партии большевиков), стал водить пальцем по ликам и приговаривать: «враг народа, враг народа, враг народа…». Это сразило меня — как же так? Неужто народ мог победить в революции, ведомый сплошь своими врагами? С этого, можно сказать, и началось моё прозрение по части советской истории.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










