Збигнев Залуский - Сорок четвертый
- Название:Сорок четвертый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Збигнев Залуский - Сорок четвертый краткое содержание
Подробно излагая ход боевых действий по освобождению Польши от фашистских захватчиков, З. Залуский, сам прошедший дорогами войны с Войском Польским до Берлина, особо подчеркивает решающий вклад Советского Союза и его Вооруженных Сил в разгром гитлеровской Германии и освобождение Польши.
Основываясь на документах, литературных произведениях, личных переживаниях, автор живо и красочно рассказывает о событиях и явлениях того бурного времени. В поле зрения автора исторические факты различного масштаба: от официальных политических акций до личных судеб простых людей, от фронтовых операций до боев отдельных партизанских отрядов.
Сорок четвертый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Лес стоял непроницаемый, тихий, коварный. Предвесенняя ночь не кончалась. Звуки капель росы и дождя, стекавших ручейками с дубовых листьев, казались неожиданными шагами, за спиной слышался приглушенный шум разгружающегося эшелона, а где-то далеко, но не на фронте, пощелкивали одиночные выстрелы и автоматные очереди. Было холодно, неспокойно, неуютно.
Поздно на рассвете мы сняли оборону и батальон, двигаясь вдоль путей промокшей, сонной колонной, вполз в незнакомый городок. Нет, они не узнавали его. Осталась лишь надпись на здании вокзала — название станции, тогда — еще на двух языках: «Kiwerce» и «Киверцы».
А ведь это была Волынь. Земля, на которой они выросли и куда возвращались спустя четыре года. Возвращались на то место, где стоял отцовский дом, где четыре года назад они оставили семью. Возвращались и чаще всего не находили здесь даже его следов. Страшнее всего были разговоры, если случалось встретить кого-нибудь из старожилов. Длинный список называемых фамилий и различные ответы, суть которых всегда сводилась к одному: «Их нет, забудь».
Мы двигались дальше на Секежице, Езёро, Тростянец, Софиевку, где некогда стояли сторожки польских лесников, дома колонистов, избы давно осевших здесь польских крестьян. Нет. Не осталось ничего. Только трава да одичавшая малина окружали кучи спекшихся кирпичей и кафельных плиток. В лесу между распаханным старым еврейским кладбищем и огромным новым польским, тоже распаханным, сооружали мы заново свои временные жилища из жердей и брезента, образовывавшие поротно улицы: Варшавская, Краковская, Познанская. Из белых осколков, найденных на пепелищах чьего-то дома, мы выкладывали орлиные крылья. Походная солдатская Польша была с нами.
Полки принимали новобранцев из Волыни. Целые отряды самообороны, один — с седым ксендзом, со знаменем и богоматерью, возглавляемый украинским коммунистом, другой — с учителем, бывшим полицейским и неграмотным крестьянским мудрецом. И приходили они не как призывники, а как странники с раз и навсегда упакованными вещами, готовые к дальнейшей дороге.
Полки отправляли офицеров и подофицеров в «гражданские командировки» — в распоряжение СПП, для организации перевозок польских семей временно на юг, на Дон и Кубань, в теплые, зеленые, хлебные места. Именно тогда на испепеленной фашистами земле впервые раздались слова, которых не понять тем, кто не стоял в Ровно на краю рва, в котором находилось 30 тысяч убитых, или на пепелищах некогда четырехтысячной Софиевки: «Если бы моя семья находилась не в Лодзи, а в Сибири, я был бы счастлив!» Их произнес автоматчик Ижицкий из 5-го пехотного полка {41} 41 „Organizacja i działania bojowe ludowego Wojska Polskiego w latach 1943—1945”, t. II, „Działalność aparatu politycznego”, Warszawa, 1964, s. 193.
.
Вечером много говорили о лозунге СПП: «Дом, выстроенный не на своей земле, не принесет счастья».
Сформулировать в то время такой лозунг руководителям этой массы людей было нелегко. Они знали сложные судьбы людей, которые поверили им, знали багаж, который был у них за плечами: история, культура, личные воспоминания и интересы. Они знали: история никогда еще ни от кого не требовала и не будет требовать перешагнуть столь высокий порог на пути в будущее. Впрочем, и сами они, эти руководители, воспитатели солдатской массы, были из «них», они тоже срослись с этой землей, «не своей», но дорогой сердцу в силу рождения, воспитания и традиций. Но они понимали железную логику политической обстановки, универсальный характер принципа справедливости в отношении наций, а также собственное бессилие перед лицом истории: «Свобода — осознанная необходимость». Идя навстречу исторической необходимости, они обретали свободу политической инициативы.
Боль солдат из Забужья была не чужда и воспитателям солдат, это была их собственная боль. Выход ей они давали только тогда, когда могли говорить как обыкновенные люди, как частные лица — в письмах, воспоминаниях, стихах, на страницах литературных произведений. Выступая же публично как политики, как руководители, они не знали колебаний. В решениях, соглашениях, политических декларациях они с холодной, железной последовательностью исходили из бесстрастной необходимости. Они верили, что так надо — и для Польши, и для идеи.
Подполковник Виктор Грош пишет:
«Правда, очень многие считают, что родина — это именно их двор на Волыни, но они забывают, что в результате террора националистов из УПА эти люди вырваны с корнем из своих дворов и вопрос об их хозяйственном устройстве где-то в другом месте встанет перед ними только после войны, следовательно, у нас будет время убедить их; уже сейчас до них легко доходит аргумент, что на этой земле они ничего не имели, кроме слез и крови; преобладающая часть воинов Войска Польского понимает значение для Польши союза с СССР» {42} 42 Там же, с. 206.
.
Так рождалась армия. Из корпуса, который еще 1 апреля насчитывал 43,5 тысячи человек, в том числе 35 тысяч в боевых частях, 90 танков и 600 орудий, создавалась армия, состав которой на 1 июля достигнет 90 тысяч солдат, из них в боевых частях, готовых к сражениям, 57 тысяч солдат, 182 танка и самоходных орудия, 987 орудий и минометов калибра более 75 мм.
Это много, если иметь в виду, как мало прошло времени. Но этого мало, если иметь в виду, сколь большие задачи стояли перед ней.
Вечерами пели «Все наши» и «Роту» — польские патриотические песни, а потом, когда умолкал дневной гомон лесного городка, над далекой станцией в Киверцах беззвучно расцветали бусы зенитных разрывов. В ночной тишине издалека, с запада, доносилось рокотание фронта.
Дни вставали серые и сырые, в густом тумане, безрадостные, занятые двенадцатичасовой боевой учебой.
Весна 1944 года приближалась как бы нехотя, запоздавшая и холодная. Под бледным майским солнцем медленно парили лесные болота западной Волыни, а по ночам гнилые, еще холодные испарения окутывали заброшенные, заросшие травой тропки и дороги Смолярских и Шацких лесов, по которым уцелевшие остатки семи батальонов 27-й дивизии АК двигались на север. Ряды закопченных труб обозначали места свежих пожарищ, где некогда стояли деревни и жили люди. В колодцах, заваленных трупами замученных, не было воды. Тошнотворное и приторное зловоние распространялось от одичавших зарослей садов, в которых догнивали трупы убитых животных. Дивизия шла на север, на Припять, приближаясь к советскому фронту. В 24-м полку оставалось 44 процента, в двух батальонах 50-го — 50 процентов личного состава, два других остались под Замлынем {43} 43 „PSZ”, op. cit., s. 596—597.
. Не хватало людей и подвод, патронов и лекарств. Половина солдат, терзаемая малярией, волынской горячкой, тифом, едва волочила ноги. Понятие «тяжелораненый» утратило всякий смысл. Поручник Цвик после ампутации пораженной гангреной руки шагал во главе роты. Капитана Остою, раненного в ногу, везли на корове {44} 44 G. Fedorowski, op. cit., s. 223.
. Истощенная до предела, хотя и одержимая яростной решимостью и волей к жизни, дивизия не могла уже никому ничего демонстрировать. Преследуемая бандеровцами, окружаемая карательными отрядами полиции и фронтовыми частями вермахта, она лишь огрызалась.
Интервал:
Закладка:


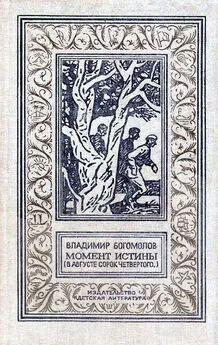

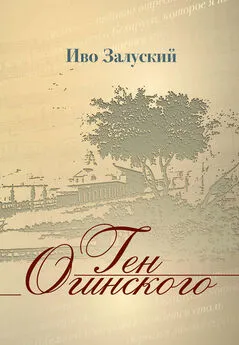
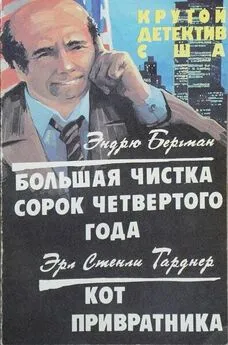
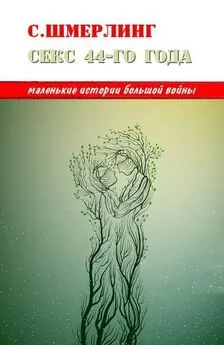
![Владимир Перстнев - Жаркий август сорок четвертого [К 70-летию Ясско-Кишиневской операции и освобождения г. Бендеры от фашистских захватчиков]](/books/1076104/vladimir-perstnev-zharkij-avgust-sorok-chetvertogo-k-70-letiyu-yassko-kishinevskoj-operacii-i-osvobozhdeniya-g-bendery-ot-fashistskih-zahvatchikov.webp)
![Анатолий Никаноркин - Сорок дней, сорок ночей [Повесть]](/books/1086820/anatolij-nikanorkin-sorok-dnej-sorok-nochej-poves.webp)
